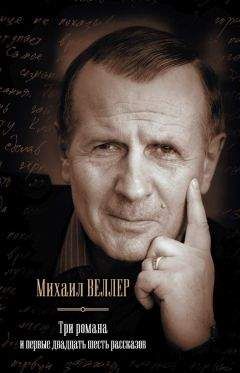Михаил Левитин - Таиров
— Ну и смотрите, пожалуйста, куда она денется, ваша «Нора»? Кто вам мешает? Мейерхольд?
— В какой-то степени, да. Мы видели с Соней «Гедду Габлер», поставленную, как принято говорить, в новых тонах. Господа, поверьте мне, это невозможно.
— Еще как возможно! — закричал Городецкий так грубо, что Саше показалось, будто лампочка в люстре мигнула, но передумала гаснуть. — Мы тоже видели.
— Конечно же, — сказал Саша, — Мейерхольд интересен, ему трудно, всё с неохотой меняется в России, а театр — он, вообще, зависит от людей.
— От литературы он зависит, — сказал Городецкий. — От идей.
— Идеи в театре — это люди, — мягко сказал Саша. — Великая актриса — это всегда новое.
Стало тихо.
— Вот, оказывается, как вы думаете, — сказал сокрушенно Кузмин. — А впрочем, черт его знает, может, наше новое и на самом деле мало чего стоит.
И ушел.
Городецкий еще хотел поогрызаться немного, но раздумал и ушел вслед за Кузминым. Потом, допив рюмку, ушел и Чулков — вслед за Блоком, в ту самую петербургскую ночь.
— Может быть, мне не стоило говорить? — спросил Саша. — Почему вы меня не остановили?
— Очень даже стоило, — сказал дядя. — Посмотришь на тебя — тихоня, а на самом деле ты, наверное, ох какой нехороший мальчик!
Еще долго Саша сидел в столовой один, когда всё со стола унесли и свет пригасили. Он попросил разрешения посидеть так одному с бокалом вина и порассуждать наедине с собой, глядя в чужое, воспетое не им петербургское небо.
ЧЕЛОВЕК В ПАРТЕРЕ
Мейерхольд присвистнул, Мейерхольд захохотал, Мейерхольд склонился в три погибели. Это чтобы увидеть в ракурсе происходящее на сцене. Мейерхольд недовольно задумался, что-то ему мешало, не получалось, не нравилось. Он заерзал плечами, взглянул вверх, на боковую ложу, ничего не обнаружил, побежал к сцене, чтобы взглянуть за портал, тоже ничего, и только потом сообразил оглянуться. Но сделал это так неожиданно и нервно, что Саша вздрогнул. За спиной Мейерхольда сидел он один.
Мейерхольд смотрел на него настороженно, как птица, одним глазом.
Артисты на сцене ждали. Вероятно, они привыкли к таким необычным паузам.
Посмотрев на Сашу, он остался недоволен, но репетицию продолжил. Правда, почему-то с крика. Он стал кричать на случайно отклонившегося в сторону актера, выпавшего из мизансцены в ту самую минуту, как он сам отвлекся на Сашу.
— Что, трудно? Вам придется находиться в ней гораздо больше времени, вы должны привыкнуть так стоять. Зрителю должно казаться, что так долго стоять невозможно, что жизнь на мгновение остановилась, он должен решить, что вы ему померещились, так неподвижно стоять нельзя. Научитесь дышать незаметно. Эмоции придется сдерживать. Неужели я вам плохо объяснил, что наше дело — это отказ от самого себя во имя большей выразительности? Или не объяснил? А? Или объяснил недостаточно ясно?
Мейерхольд нервничал, артист на сцене тоже, и Саша нервничал в партере. Ему показалось, что Мейерхольд снова неодобрительно оглянулся.
«Может, мое присутствие мешает ему репетировать? — с ужасом подумал Саша. — Тогда лучше исчезнуть. Но мне говорили, что он любит, когда люди на репетиции».
К счастью для всех, на сцене появилась Вера Федоровна и, подойдя к группе склоненных над пустым местом монахинь, легко и спокойно заняла его, как предназначенное именно ей, сестре Беатрисе. Всё как-то сразу образовалось. Она легла на сцену, как на траву, голову положила настоятельнице на колено, и актерские руки сразу потянулись к ней, чтобы оградить от беды. Мизансцена и в самом деле стала красивой, Комиссаржевская вернула ей жизнь, одухотворила.
«Хорошо, — подумал Саша. — А ведь и в самом деле хорошо. Неужели он прав, что надо отказаться от себя?»
Мейерхольд заметался, увидев, что у нее сразу получилось. Он стал похож на зверя, почуявшего запах крови.
— Чуть-чуть левей, — сказал он Вере Федоровне, и Саше показалось, что он не столько руководит ею, сколько покровительствует. — Взгляд ни на кого конкретно, лучше благодарить не мимикой, а телом, выражение лиц слегка отсутствующее. Они, как овцы, прижимаются друг к другу, когда грозит опасность или ветер неожиданно пронесся над ними. Легкие, легкие тела.
— Черт возьми, — бросил он раздраженно, и Таиров понял, что это обращение к нему. — Вы сюда работать или смотреть пришли? Кто вы такой? Почему вы мне все время смотрите в спину?
— Я Таиров, — сказал Саша, подымаясь с кресла. — Я недавно приехал.
— Ну и что, что Таиров? Вы должны были получить разрешение присутствовать на репетиции.
— Я получил, — сказал Саша, — у вашего помощника.
Группа монахинь вместе с Комиссаржевской неподвижно ждала, чем это закончится.
— Ах, у моего помощника? И он разрешил?
— Да.
— Вот видите, какие у меня помощники! — и Мейерхольд фыркнул, замотав головой, как конь. — Ну что вы стоите, если уж пришли, то сядьте. Вам интересно?
— Да, — сказал Саша. — Интересно.
— Интересно! — слегка передразнил Мейерхольд. — Вижу я, как вам интересно. Что здесь может быть интересного?
И, внезапно вскочив без разбега на сцену, разметав всю группу, не считаясь с Комиссаржевской, стал показывать так, что Саша решил, что попал не туда, его просто отвлекли препираниями, чтобы перенести в реальные стены католического монастыря, и тряпки, на которых были изображены окна, превратились в каменную кладку с прорезанными в ней бойницами, а сами монахини из принадлежащих г-ну Мейерхольду стали принадлежать Богу.
Комиссаржевская весело и с удовольствием смотрела, как он ложится в ее мизансцену.
— Я не ошиблась, Всеволод Эмильевич? — спросила она. — Тут надо как бы падать? А это не будет слишком балетно?
— У вас-то? — хмыкнул Мейерхольд. — У вас-то балетно? У вас, Вера Федоровна, может быть только пластично.
Он зажег спичку, чтобы прикурить, и Саше в который раз за репетицию открылся этот известный по карикатурам знаменитый мейерхольдовский клюв, и не напугал, как минутой раньше, а показался очень даже симпатичным. Вообще можно было разобрать по поведению носа — доволен или недоволен репетицией его владелец.
«До чего же он чудесный актер, — подумал Саша. — И ведет себя так интересно, будто самое настоящее происходит в зале, а не на сцене. Или он играет для меня? Придет время, и он перенесет всего себя туда, на сцену. Это безумие, конечно, но правильней, чем разводить мизансцену, пусть даже символистскую».
Мейерхольд прервал его размышления, успев мелькнуть в группе нищих, где был занят как актер, мгновенно перенеся все внимание на себя, придумав какой-то жест, безотносительно к главной задаче — выпросить у Мадонны милостыню, просто посторонний человеческий случайный жест, вернувший всей сцене ощущение реальности. Затем снова вернулся в зал, скрыв от актеров тайну этого жеста.
«Могут ли люди вести себя на сцене так странно, как он? — продолжал думать Саша. — Но он же не наваждение, он же тоже человек? Правда, исключительный. Что с того, что исключительный — это же и есть самое интересное. Будто он что-то ловит в воздухе, нос по ветру, запах возбуждает его или вызывает отвращение, фантазия работает от колебаний воздуха, от каких-то померещившихся ему свечений. Какие могут быть свечения в темноте зала? Может быть, только в его воображении?»
Саше показалось, что Мейерхольд ни разу не взглянул на сцену впрямую, рассчитывал больше на интуицию, чем на взгляд. Он боялся, что увиденное разочарует его и станет трудней работать.
Но между тем он видел всё — всё абсолютно, это было необходимо, чтобы легкое раздражение не давало успокоиться бушевавшему в нем огню.
— Мерзавцы! — слышалось Саше, когда он метался по проходу зрительного зала, и непонятно было — кому адресовано это слово, потому что секундой позже он безудержно, до самозабвения хвалил актеров. Он кривлялся сам с собой, хвалил и шептал что-то неодобрительное одновременно, при этом Саша мог поклясться, благоговейно, почти молитвенно относясь к тому, что происходит на сцене.
Ни на минуту этот высокий стройный мужчина не выходил за стены монастыря, не переставал быть каждой из монахинь, всеми сразу.
— Слова — как камни, падающие в глубокий колодец, — говорил он. — Долетит камень, только тогда новое слово. Услышьте всплеск, не суетитесь. Они уже достигли высшего покоя, им торопиться некуда.
То, что он делал, было очень красиво, но так неудобно артистам, что Саша даже поежился: не хотел бы он быть в их шкуре.
— Скучно или интересно? — почувствовал он над собой запах дыма. — Признайтесь, скучно?
— Да нет же, — ответил Саша.
— Но и не интересно, признайтесь. Откуда я вас знаю? Вы, наверное, из тех, что вечно подглядывают за мной.
— Моя фамилия — Таиров, — повторил Саша. — Я артист. Простите, что помешал.
![Лидия Кудрявцева - Этот ребенок - я сам[статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)