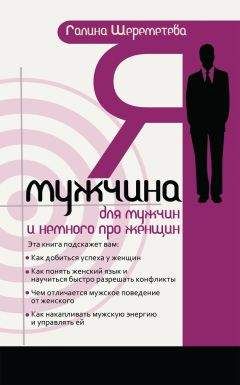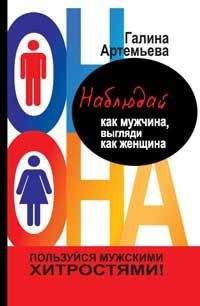Одельша Агишев - Юность гения
— Папа! Папочка! Папа! — захлебывался слезами четырнадцатилетний Махмуд и бросался к Хусейну. — Ну пожалуйста, сделай что-нибудь!
— Приготовь пиалу! — Хусейн лихорадочно взбалтывал в небольшом кожаном бурдюке какую-то жидкость.
Вбежали двое испуганных слуг.
— Дайте горячей воды, быстро! — крикнул им Хусейн. — Махмуд, помоги мне.
Он наполнил пиалу настоем из бурдюка, склонился к отцу.
— Приподними ему голову, — командовал Хусейн. — Выше, выше, не бойся.
Край пиалы стукнул по стиснутым зубам. Махмуд, всхлипывая, изо всех сил помогал брату. Отец слабо глотнул раз, другой. Тоненькая струйка побежала по заострившемуся, небритому подбородку.
— Ну еще чуть-чуть, капельку, — приговаривал Хусейн. — Вот так.
Они бережно опустили отца на подушку. Он затихал. Запрокинулось лицо, безвольно повисла рука, и бессильный хрип исходил от умирающего тела.
Махмуд в ужасе попятился от постели.
— Ну где вода? Воду, скорее воду! — Хусейн бросился к своему сундучку, выхватил еще какие-то коренья, мешочки с сушеными травами. — Махмуд!
Махмуд застыл, не в силах оторвать взгляда от умирающего отца.
— Ты слышишь? Да помоги же мне, остолоп! — Хусейн сильно рванул брата за рукав, встряхнув все его тело. — Скорее!
Очнувшийся от оцепенения Махмуд кинулся за ним.
Над Бухарой плыла ночь. Полный белый месяц серебрил листья, лениво, редко перелаивались собаки.
Тускло, слабо светилось лишь оконце в доме Ибн-Сино.
Отец медленно открыл глаза, тихо улыбнулся.
Мерцала лампадка. Младший сын спал одетым, сидя на полу и уткнувшись головой в низкий столик, на котором валялись пучки сухих трав, мешочки с порошками, коренья, семена, стояли готовые настои. Старший что-то сосредоточенно толок в медной ступке, готовя очередной состав. Почувствовав взгляд, он поднял голову.
Отец и сын долго смотрели друг на друга.
— Ну что, господин ученый факих, — тихо проговорил отец, — вам опять удалось удержать меня на краю ямы?
— Это не я, отец, — ответил Хусейн.
— А кто же?
— На этот раз Гиппократ. Я разгадал его рецепт.
Отец медленно покачал головой.
— Нет. Ни Гиппократ, ни любой другой врач в мире не смог бы сделать того, что сегодня сделал ты… Я был там, понимаешь? Там. А ты протянул руку и — вернул меня.
Месяц уходил за городскую стену. Смутно белели плоские саманные крыши. Где-то далеко, за воротами Чильдухтарон запел первый петух.
Оконце в доме Сино все не гасло.
— Ну вот, — глотнув из пиалы, произнес отец. — Теперь мне совсем хорошо.
Он приподнялся на подушках, сел удобнее, пристально взглянул на Хусейна.
— Ну… так что ты хотел мне сказать?
В самой глубине его оживших, внимательных глаз блестела усмешка.
— Понимаете, отец, — неловко глядя вбок и запинаясь, проговорил Хусейн. — Дело в том, что есть одна девушка…
— Айана?
— Как? — вскинулся Хусейн. — Вызнаете о ней?
Старший Сино усмехнулся в усы.
— Какой бы я был отец, если бы совсем ничего не знал… Знаю и заранее люблю се, как дочь.
— Отец… — проговорил Хусейн и, склонившись, поцеловал его руку.
Отец тронул его лицо:
— Была бы жива мать, сосватала бы ее тебе по всем правилам. Не дожила, хлопотунья моя. — Он помолчал отрешенно, вздохнул. — Я попросил одного нашего родственника сходить к родителям Айаны. Конечно, я и сам пойду, как только поднимусь на ноги, но пора уже сейчас начинать разговор, я так думаю. — Он снова повеселел. — А то, не дай бог, еще упустим девушку. А, господин факих?
— Не дай бог, — всерьез затревожился Хусейн.
Два всадника в добротных, отороченных муаром халатах вынырнули из темноты и остановили коней.
— Кажется, здесь, — проговорил один из них.
— Смотри, вроде не спят, — отозвался другой.
Первый спешился и властно застучал в калитку. Залаяли окрестные собаки.
Во дворе послышались шаги, калитка распахнулась, выглянул Хусейн.
— Нам нужен Хусейн ибн-Сино, — сказал первый из всадников.
— Это я.
— Мы от повелителя, — сообщил второй. — Он просит вас прибыть во дворец.
— Меня? Во дворец? — удивился Хусейн. — А для чего?
— Он ждет, — сказал первый.
По длинным, устланным драгоценными коврами переходам его вел везир, сухой, быстрый старичок с вьющейся бородкой и острыми, пронзительными глазками.
— Совершенно доверительно должен вас предупредить: у повелителя помрачение…
— Что? — не понял Хусейн.
— Ну, некоторый упадок духа. Он третий день не ест, не выходит и никого не хочет видеть. Сегодня он почему-то вспомнил о вас. Но будьте осторожны, и такие дни он гневен, как лев! Поэтому никаких просьб, жалоб, вообще никаких дел! Постарайтесь его развеселить… — Везир втолкнул его и высокие резные двери и плотно прикрыл их.
— Кто там? — услышал Хусейн глухой раздраженный голос и в углу огромного зала, у окна увидел одинокую фигуру правителя. Эмир кормил голубей, слетевшихся на галерею.
— А, это ты….
Эмир неторопливо подошел к столику в углу, где стоял объемистый пузатый кувшин.
— Я потревожил тебя, разбудил?
— Нет, государь. Я не спал.
— Ну и прекрасно, я тоже. — Эмир наполнил прозрачные стеклянные кубки, один из них протянул Хусейну: — Пей.
Темно-красное, вишневого букета вино казалось в кубке густым, переливающимся.
— Ну, что же ты? — чуть усмехнулся эмир. — Повелитель Бухары подносит тебе вино своей рукой.
Хусейн сделал глоток.
— Ну как, нравится?
— Да, государь, — у Хусейна заблестели глаза. — Такой аромат!
— А я его совершенно не чувствую, — эмир поднес кубок к лицу, сморщился. — Что мусалас, что… желчь, никакой разницы.
Он с отвращением поставил кубок. Нездоровая, темная волна то ли хмеля, то ли просто недомогания проползла по его лицу. Он отвернулся. Хусейн пристально проследил за ним, тоже отставил свой кубок в сторону.
— Ваше величество, — осторожно позвал он.
— Да.
— Позвольте мне осмотреть вас.
— Осмотреть? Зачем?
— Мне кажется, вы нездоровы.
— К чертям, к чертям! — отмахнулся эмир. — Лекарей у меня и без тебя хватает. Лучше пей! Где твой кубок? — Ои наполнил кубок Хусейна до краев. — Только прежде скажи что-нибудь.
— Ну что ж, скажу. — Хусейн был серьезен.
Ты видишь, друг мой, те тряпицы?
Их озорной взвивает ветер.
Ты скажешь: «То влюбленный бродит,
Кляня в тоске весь белый свет».
Нет, то привратник полководца
Нам издали руками машет,
Он говорит: «Не подходите!
Вы видите, приема нет».
Эмир засмеялся.
— Как? Как? «Приема нет»? — Он поднял кубок. — Недурно. Пей.
Они глотнули из кубков. Эмир вдруг снова сморщился, выронил кубок. Хрустнуло стекло на ковре, на халат плеснуло кроваво-красное вино. Эмир помрачнел как туча.
— А знаешь… ведь это худшая из примет, — проговорил эмир.
Хусейн наклонился, быстро собрал осколки.
— Ваше величество, — начал Хусейн. — Могу я просить вас…
— Проси, — не сразу отозвался эмир.
— Вышлите человека в наш дом.
— Зачем?
— Чтобы успокоить домашних и принести сюда одну вещь.
— Изволь, — рассеянно кивнул эмир. — А что это за вещь?
— Мой ящик с лекарствами, — спокойно произнес семнадцатилетний Хусейн и, на мгновение опередив нахмурившегося эмира, добавил: — Я понимаю, что приема нет, но на этот раз хотел бы обойти привратника.
Эмир помолчал и скупо усмехнулся.
Во время осмотра на эмира снова накатила черная меланхолия. Он полулежал, откинувшись на пышные, огромные подушки, угрюмо молчал, прикрыв глаза, потом тяжко вздохнул:
— Ну что, нашел что-нибудь?
— Пока нет, государь, — сосредоточенно следя за пульсом, отозвался Хусейн.
Эмир кивнул, не открывая глаз:
— И не найдешь.
— Почему, государь?
— Потому что болезнь не здесь.
— А где же?
— Там, — эмир приподнял усталые веки и ткнул рукой в сторону окна. — Там… Осмотри лучше больного по имени род людской. Осмотри и излечи, если можешь. Выправь горбы уродам, сделай предателей верными, лицемеров — святыми.
Он говорил просто, горько.
Хусейн, осматривавший веки, мочки уха. пальцы эмира, поднял глаза:
— Ваше величество беспокоят государственные дела?
— Нет, — качнул головой эмир. — Почти не беспокоят. Потому что мне иногда кажется, что ими управляю уже пс я, а кто-то совсем другой.
— Кто же?
— Не знаю. Ну например, Махмуд Газневи…
— Я часто слышу это имя. В толпе, на базаре, в мечети. Кто это?
Эмир скривил губы в ненависти и презрении:
— Чернь. Выскочка. Сын раба нашей семьи. Двадцать лет назад он умер бы за честь подать мне стремя, а сейчас судит и решает от имени великого халифа.