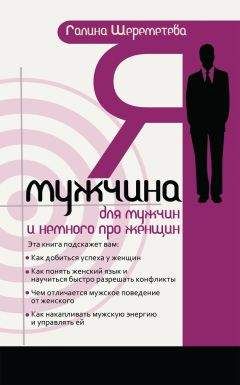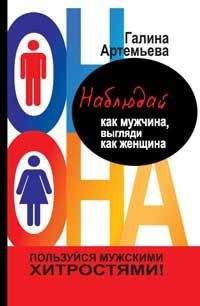Одельша Агишев - Юность гения
Забегала ночная стража. В залах и переходах спящего дворца затеплились светильники. Толпа молча застыла в одном из залов, пустом и темном.
— Повелитель Бухары, пресветлый эмир Нух ибн-Мансур! — возвестил начальник караула.
Двое стражников расступились. Эмир вошел в зал без телохранителей, сопровождаемый лишь везиром. Эмир выглядел озабоченным, усталым. Толпа склонилась. Эмир остановился возле трона.
— Встаньте, правоверные, — негромко произнес он. — Что привело вас сюда в такой час?
— Страшное дело, повелитель, — выступил вперед Бин-Сафар. — Святотатство. Эти двое вырыли из могилы покойника и надругались над ним.
Эмир взглянул на Камари, задержал взгляд на Хусейне, потом медленно оглядел толпу. Стояло молчание.
— Подойди ко мне, божий человек, — негромко произнес эмир.
Дервиш, первым ворвавшийся в кладбищенскую хибарку, стоял сейчас в гуще толпы, за спинами, но эмир обращался именно к нему. Дервиш вздрогнул от неожиданности и незаметно подался назад.
— Я жду, — кротко сказал эмир.
— Подойди… Приблизься к повелителю, — зашептали вокруг дервиша, и толпа расступилась. Дервиш, помедлив, неохотно, осторожно вышел вперед.
— Это ты их выследил? — не повышая голоса, спокойно, даже ласково спросил эмир.
— Воля бога направляла меня, — не сразу, угрюмо отозвался дервиш.
Эмир кивнул:
— Ну что ж, ты достоин награды…
Не оборачиваясь, он протянул руку, и везир вложил в нее мешочек с золотыми. Эмир протянул мешочек дервишу и, не отрывая глаз от его слегка посветлевшего лица, задержал движение руки.
— Вот только кто он, твой бог? — в том же тоне, как будто невзначай спросил эмир. — Как его имя?
Дервиш застыл. В толпе недоуменно переглядывались.
— Не отводи глаз, — ласково попросил эмир. — Бограхан? Амир Ковус? Махмуд Газневи?
Дервиш не выдержал и отвел взгляд.
— Так. — задумчиво кивнул эмир. — Значит, Махмуд Газневи. — Он помолчал. — И по его воле ты задумал поссорить меня с учеными, — так же задумчиво продолжал эмир. — Ну что ж, пусть он тебе и платит.
Он вернул мешочек с золотыми везиру, кинул взгляд на стражу, коротко указал головой, и дервиш тут же был схвачен дюжими стражниками и быстро, бесшумно уведен.
— Ступайте с миром, мусульмане, — возвысил голос эмир. — Виновные этого дела будут наказаны. — Толпа склонилась. — И поменьше слушайте лазутчиков и соглядатаев. Аминь, — заключил эмир.
Притихнув, в мрачном молчании толпа покидала дворец.
— Велик наш эмир, — осторожно проговорил кто-то. — Насквозь видит.
— В чем тут величие! — гневно обернулся Бин-Сафар. — Схватил беззащитного божьего человека!
— Он же лазутчик!
— А хоть бы и так, — с гневом подхватил бородач в синей чалме. — Он — ревнитель нашей веры! А все, что для веры — безгрешно!..
— Ну что, Камари, — устало спросил эмир, — тебе уже мало кошек и собак?
— Мало, мой повелитель, — смело ответил врач. — Их внутренние органы не сходны с нашими.
— На этот раз я не могу тебя простить.
— Но, государь…
— Поедешь в Балх. Пусть они отдохнут от тебя. А там посмотрим.
— Повинуюсь, государь, — облегченно вздохнул Камари.
Эмир повернулся к Хусейну:
— Как тебя зовут, юноша?
— Хусейн ибн-Сино, ваше величество.
— Мне знакомо твое лицо…
— Три года назад вы подарили мне книги, государь. На базаре.
Лицо эмира потеплело.
— Да, припоминаю… Пригодились?
— Конечно, государь. Я до сих пор учусь по ним.
— Вижу, — чуть усмехнулся эмир. — Что скажешь о нем, учитель?
— Выше всяких похвал, — отозвался Камари. — Он пойдет в науке гораздо дальше меня.
— Пойдет дальше тебя? — усмехнулся эмир. — Значит, его опасно тут держать. Он не только до мазаров, до царских гробниц доберется.
Камари и Хусейн затихли, не зная, улыбаться или молить о прощении.
— Ладно, — посерьезнел эмир. — Ты прощен, Сино.
— Благодарю вас, государь, — глубоко поклонился Хусейн, помедлил и нерешительно начал: — Могу ли я просить у вас милости?
— Проси.
— Пощадите сторожа, ваше величество. Он действовал не но своей воле.
— Сколько вы заплатили ему?! — перебил эмир.
— Но, повелитель, мы хотели…
— Я спрашиваю, сколько он получил от вас? — жестко переспросил эмир.
— Десять дирхемов, — ответил Камари, отведя взгляд.
— Он будет повешен у ворот кладбища с десятью дирхемами в зубах, — не повышая голоса, сообщил эмир. — Да будет так, ибо его грех самый тяжкий. Аминь.
Хусейн раздвинул руками завесу камышовых стеблей, и нетерпеливый взгляд его угас. Развилка старого тала была пуста.
Он разочарованно взглянул по сторонам, прошел по берегу, присел.
Легкий ветер шел по камышам, рябил воду Мулиана. Стоял птичий гомон, серебрилась вода.
Хусейн задумчиво опустил руки в воду, склонил голову в усталости и печали, и тут чьи-то тонкие, легкие пальцы быстро прикрыли его глаза.
— Айана! — вскочил он на ноги.
— Я испугалась, что вы уснете и свалитесь в воду! — смеялась она, и вдруг лицо ее тревожно вытянулось. — Что с вами, Хусейн?
Она заметила ссадины, синяк на лице, порванный халат, пятно крови.
— Что случилось, ради бога! — она бросилась к нему.
— Да ничего страшного, слегка поколотили, и все.
— За что?
— За один опыт.
— Опыт? Господи, кому мешают ваши опыты! — Она сорвала с головы платок, намочила его, стала обмывать его царапины.
— Оказывается, мешают.
— Но чем? Кому?
— Единоверцам, — усмехнулся Хусейн.
Она снова намочила в реке платок, приложила к синяку:
— Подержите так. И снимите халат, я его заштопаю.
— У вас есть игла? — удивился он.
— Есть, — кивнула она. — Настоящая, китайская. Мне ее подарила бабушка и наказала всегда носить с собой. Видите, пригодилась.
Они сидели под талом, она ловко, привычно штопала его халат, а он, приложив мокрый платок к вспухшему глазу, наблюдал за ней.
— Так что же это был за опыт? — спросила ома.
— Как вам объяснить? — осторожно ответил он. — Я боюсь, он вам будет непонятен.
— Жаль, — вздохнула она.
— Вам действительно жаль?
— Конечно, — кивнула она и снова вздохнула. — Ах, если бы я могла столько читать, как вы!
— Зачем?
— Я бы стала вашей ученицей, — твердо, серьезно ответила она.
— Моей ученицей? — изумился он и рассмеялся. — Но чему я могу научить? — И, усмехаясь, прочитал:
В познаньи я достиг уже того,
Что знаю, что не знаю ничего.
Она улыбнулась и подхватила:
Но если жить, то вечно жаждать знанья
И до конца искать, искать его!
Он не отрываясь смотрел на нее. Она отвела взгляд и снова начала:
О знанье мудрое, жемчужина жемчужин!
Неоценимое, ты ценности залог…
Ты мудреца блистательная свита,
А неуч и со свитой — одинок, —
подхватил он. Она подала ему халат. Он надел его, читая нараспев:
Судьбою дан бессмертия удел
Величью слов и благородству дел.
Все пыль и прах. Идут за днями дни.
Но стих и дело вечности сродни, —
продолжила она.
Солнце садилось за холм, за городскую стену. Синие тени протянулись в золотом воздухе азиатского заката.
Она читала:
Жизнь — золотой кувшин.
Да только вот беда:
То хороша вода в нем, то плоха.
Он подхватывал:
Скажи, гончар, где раздобыть ту глину,
В которой радость отстоялась навсегда?
Они сидели на берегу под старым талом, смотрели друг па друга, улыбаясь и, забыв о синяках, царапинах и заботах, вспоминали все новые и новые строчки. А закат все пылал над вечной желтой землей, над стеной Бухары, над тугаями, и в этом закате плыли и плыли их голоса.
Хусейн:
Зачем пришел я в этот мир?
Что совершить и что сказать?
Пришел изведать жизни мед
Иль привкус горечи познать?
Айана:
Успею ль ощутить, что жил?
Оставлю ли хоть малый след?
И чем помянут в тишине?
Смеяться будут иль рыдать?
Так горел и никак не мог догореть этот закат, — закат месяца мухаремм 386-го года хиджры.
Месяц рамадан 387-го года хиджры
Отец задыхался. Мертвенная синева покрыла его щеки и полуприкрытые веки, неровное, натужное дыхание то совсем прерывалось, то начинало сотрясать тело до спазм.
— Папа! Папочка! Папа! — захлебывался слезами четырнадцатилетний Махмуд и бросался к Хусейну. — Ну пожалуйста, сделай что-нибудь!