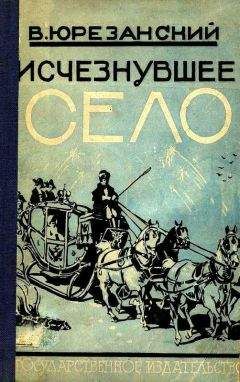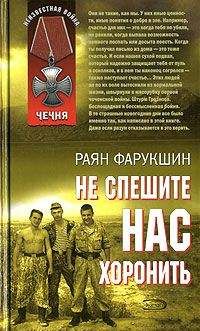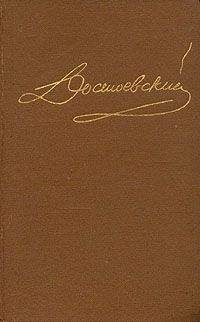Витаутас Жалакявичус - Легче воспринимай жизнь
— Я тоже переживаю.
— Это другое. Не знаю, как объяснить, сама не понимаю, он все переспрашивает: правда, что ты останешься теперь здесь жить, как надолго? Говорю, ну, может быть, на год, откуда мне знать? Приезжает домой хозяин, молодой мужчина, и, слава богу, нам, старикам, будет легче, а он мне говорит: меня отправляйте в приют для престарелых, я уже не годен на жизнь… Сколько у него сил? Но он все двигается, двигается, прикручивает, откручивает. Ему кажется, что весь дом стоит на нем по-прежнему, не будет его, и — все! А живем мы больше помощью твоего доктора и, к слову, вниманием президента, но все это иногда трудно принимать со спокойным сердцем, становится похоже на «армию спасения», на милостыню, — голос ее не дрогнул, но, не без усилии воли, она позволила себе только кашлянуть, прочищая горло. — У президента сегодня бал, жена его приходила утром, принесла вот этих карпов, болтушка милая, детей бог не дал, тысяча проблем от этого у женщин, спрашивала, правда ли, что ты сегодня приедешь, я ей сказала, что да, и намекнула, что у нас сегодня тоже бал. Думаю, что она поняла, хотя видит и слышит она только себя одну. Ты не убежишь сегодня к ним?
— Нужно обновить немного мебель, — сказал Пранас, — на первом этаже — там просто рухлядь.
— Ты только меня не кори, — сказала мать. — Я сама ничего не могу сделать. Могу только дать деньги. Конечно, ты должен иметь условия и уют, чтобы мог работать. Иначе ты сбежишь при первой оказии. Знаешь, милый гость, рыба уже созрела для сковородки. Открой окно. Мне нечем дышать…
Мимо кухни прошел отец в белой сорочке и направился к лестнице.
— Куда ты, отец, в белой сорочке? — крикнула мать.
— В котельную. Посмотреть за печкой… Все говорим, говорим, планы, проекты, и ничего реального.
Потопал вниз. Было слышно, как он споткнулся на повороте или наступил на что-то.
— Пойди за ним, — сказала мать. — Он встал с постели только в твою честь. Ему запрещено выходить.
— Но он уже вышел.
— Если не позовешь, он пробудет там и час, и вечер. Там его лаборатория жизни.
Пранас спустился вниз и нашел отца обеспокоенным. Он зажигал спичку за спичкой и подносил огонь к трубке в дверце котла.
— С вентиляцией в порядке, не так ли? — спросил Пранас.
— Однако это не значит, что ее не нужно проверять.
— Доверяй и проверяй.
— Газ непривычен в нашем быту, — сказал отец. — Мы выросли на керосине и электричестве.
— Это так, — сказал Пранас. Потом он огляделся при свете желтой лампочки и спросил:
— Скажите, па, — он отчима с детства называл отцом по своей доброй воле, — вот эта рухлядь, что лежит здесь столетиями, тысячелетиями, может когда-нибудь пригодиться в хозяйстве?
— Ерунда, — сказал отец. — Плюшкин и не такое хранил.
— Мамулька ждет, — сказал сын. — Идемте-ка.
— Это она послала вас? Ты ничего не замечаешь за ней?
— Нет.
Отец улыбнулся и, как-то стыдливо опустив голову, пошел к выходу.
— Смотрите, Пранюшка, глубже. Чувства — они обманчивы.
На столе — с лучшей посудой, с букетом роз посередине, с бокалами красного вина — стояли опустошенные тарелки с остатками салата и обглоданными позвоночниками карпа. Маленький цветной телевизор передавал «Международную панораму».
— Все? — спросила мать. — Можно убирать лишнее со стола? Отец, ты не доешь свой салат?
— Я не хлебороб, — сказал отец. Он подмигнул Пранасу: — Она забыла, что я не хлебороб. Сколько здесь положено, это мне на два дня. Она забывает.
— Я не забыла, не забыла, — сказала мать и попробовала встать из-за стола. — Мое дело предложить, ваше дело отказаться. Тогда рыбу убираем, тарелки меняем, несем мясо.
Она запела и стала собирать тарелки. Пранас унес в кухню тарелки и вернулся с запеченной свининой, обложенной картофелем и яблоками.
— Кто будет все это есть? — спросил отец.
— Мы с мамой. И вы тоже, папаша, с нами, самую малость, но отведаете, не так ли?
— Если вы хотите меня доконать, я иду вам навстречу, — беспричинно повеселел отец и стал придвигаться со своим стулом к столу.
— Иди навстречу, иди. — И мать обрадовалась.
В доме председателя было в меру шумно, но можно было еще разобрать, кто с кем и что говорит. Ачас не был ханжой, но не имел привычки спаивать гостей до белых чертиков. К Йонасу подошла Роза, жена председателя.
— Доктор, где ваш друг?
— Думаю, он тоже ест и пьет вино.
— Я понимаю, — сказала Роза, — но его надо затащить сюда.
— Для чего? — неуклюже спросил он. — В том доме свои проблемы, свои ритуалы.
— Я прошу. Сделайте это для меня. Или вы ждете, чтобы председатель попросил?
— О чем и кого я должен попросить? — откликнулся Ачас. Он стоял в стороне с рюмкой в руках, выслушивал горячее выступление приземистого собеседника о принципах трудовой дисциплины и по идее мог не слышать разговора жены с доктором.
Подошел, трезвый и любезный, как подобает хозяину в день своего праздника, ироничный, как подобает мужу, когда жена говорит в стороне с другим мужчиной, и спросил:
— Я должен попросить, чтобы доктор выпил? А если он не хочет? Знаешь, наш район по выпитому на голову населения стоит не на последнем месте.
— Идет слух… идет слух! — отозвался тучный мужчина, уплетавший сладкое. — Идет слух, что спиртное привезено доктором из города… Из сказанного следует, что выпитое нами пойдет за счет показателей упомянутого города, за что и голосуем. — И поднял рюмку.
— До чего звукопроницаемое общество, — шепотом сказал Йонас.
— Да, — Ачас не спорил.
— Пусть он пригласит Вайткуса, — сказала Роза. — Приехал известный человек в свой край, а его и знать никто не хочет.
— Он с родителями встретился. Пусть. Я намекал доктору, но не настойчиво.
— А ты настаивай, — не отступала Роза. — Ты умеешь.
— Что-что, а это он умеет, — вклинился снова голос любителя сладкого. — Можешь, не можешь, он не спрашивает. «Борис, даешь еще полпормы, Борис!»
— Борис! — шепнул ему на ухо Ачас. — Даешь еще полпирога! Вперед!
На веранде танцевали под новую музыку па старый лад, в кухне мужчины спорили о делах прошлого лета, Ачас вернулся к своему коренастому собеседнику поговорить о принципах дисциплины. Роза ускользнула в спальню переодеться. Она сейчас это придумала, и мысль показалась ей решающей — об остальном, мучившем ее целый день, Роза перестала думать.
…Она вернулась в гостиную в новом платье, шитом как-то по случаю, в котором не видел ее никто, кроме мужа, которому оно тогда показалось несерьезным.
Выпито за столом было хоть и в меру, но в меру не малую, повсюду образовались естественные группы, занятые решением своих неотложных дел; женщины говорили о фермах и птице, мужчины — о президенте Рейгане и запчастях к автомобилям, оба пола сообща твердили, что детям попасть в вуз — проблема, которую не решить ни успеваемостью детей, ни заработком родителей. Появление Розы на первых порах прошло незаметно, что привело ее в смущение. Может быть, уставшие гости приняли новое платье за появление нового лица. Ачас был единственным, кто увидел перемену, но даже бровью не повел. Подошел Борис, тот бригадир, что работал и ел за двоих, и наклонил свое тучное туловище.
— Потанцуем, учительница? — сказал он Розе.
Роза вовремя спохватилась и не отказала, Борис мог бы и не понять. Они вышли на веранду.
— В техникуме мы танцевали каждую субботу, — сказал Борис. — Как на службу ходили.
— Завидую, — придумала Роза. — А что вы танцевали?
— Кто что хотел. У нас это было свободно. Никаких правил. Демократия в чистом виде. Только вот, если девица закапризничает, не захочет танцевать с каким-нибудь хлопцем, тут демократия кончалась. Тут уже каюк.
— Я это угадала, — сказала Роза. — По уверенности, с какой вы меня пригласили.
— Конечно, уверенность есть во мне. Я не наступил вам на ногу?
— Ты мне наступил, — сказал мужчина, танцевавший рядом. — Трактор ты несчастный!
— Ты, когда танцуешь, ноги держи под собой. Это я тебе профессиональное замечание делаю, — сказал Борис и подмигнул Розе.
Роза увидела доктора. Йонас вошел в комнату, уселся у проигрывателя и заговорил с женой инженера и ее дочкой, которая в этом году окончила школу и теперь работала на ферме. Из-за нсе-то и возник тот спор о вузах. Она пошла танцевать с доктором. Танцевала она скромно, будто разминалась к танцу. У нее был порок сосудов и ей нельзя было перегружать себя движением. Глаза были добрые и боязливые, как у дичи. Мать глядела на нее и подбадривала улыбкой.
— Так где же ваш друг? — спросила Роза.
— Я вам говорил: там свои и непростые проблемы. Простим его.
— Его? Простим. Мы здесь, и больше никого и ничего не надо, правда?
Она попробовала запеть: «Если бьются наши сердца, нам больше ни-и-чего не надо…»