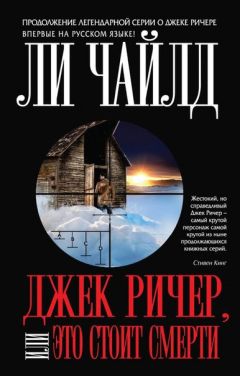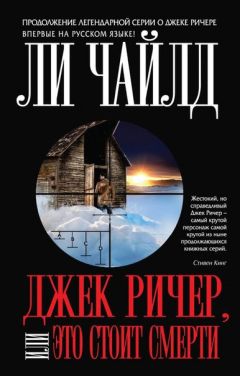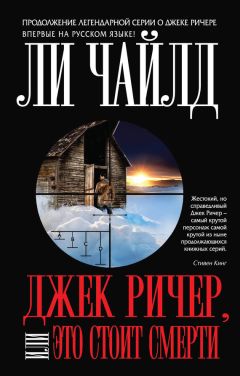Надежда Кожушаная - Прорва
У носильщика побежали мурашки по телу. Он встал и убрал руки.
— Он умеет! — говорила Анна. — Самое главное — он умеет! — заплакала хуже, больше, ближе к истерике.
Носильщик поднялся и надел штаны.
— Куда? — спросила Анна не своим голосом. — Сидеть.
Он не слушал, одевался.
— Зачем же так грустить? — продолжала Анна передразнивать кого-то. — У нас нельзя грустить, — вцепилась носильщику в штаны. — Сядь! Я сказала: сядь! Мне нельзя одной. Сядь, животное!
Он легко отстранил ее, ушел. Передергиваясь от неприязни.
— Вон отсюда! — крикнула она и, оставшись одна, опять выла и плакала в потолок.
— Гражданка Горбачевская, особо опасная и необъяснимая убийца, здравствуйте, — сказал Адвокат, входя в камеру к Горбачевской. — Докладываю. Двое моих коллег с прошлого века выразили восхищение от того, что я занят вами. Правда, письменно. Знаете, с каждым разом мое изумление от встреч с вами становится все менее изумительным, мне гораздо больше нравится рассказывать о вас почему-то. Надо что-то придумать. Как вы себя чувствуете?
Горбачевская сделала «необъяснимую» улыбку и ответила:
— Доктор сказал, что беременность просто показательная.
— Что… показательная? — помолчав, проговорил Адвокат.
— Вы сказали, что я должна забеременеть, — Горбачевская сощурила глаза.
Адвокат сел и изумленно развел руками:
— Вы что?! Но ведь вас не выпускали даже на прогулку?
Она сделала брезгливое лицо и фыркнула.
— И какой срок? — спросил Адвокат.
— Семь недель.
— Футы, ё… простите. Вы меня сбили… И что?
— Всё, — сказала она.
— Понятно.
Адвокат заткнулся, Горбачевская продолжила:
— Меня выпустят, мне нужно привести себя в порядок. А потом я вас отблагодарю. Мы поужинаем. Хотите — «Метрополь», хотите — у меня.
Он посмотрел на нее и увидел то, что видел все это время: Горбачевская поманила его пальцем, быстро и коротко обняла, зарезала, — и голова его покатилась прочь.
Он передернулся от отвращения и блаженства.
— Бог с ним, с «Метрополем», — сказал он. — Мне нравилась речь, с которой я выступлю в суде, я мечтал, как я потрясу…
— Да, мне говорили, что я у вас последняя, — она внимательно рассмотрела его. — Давайте, я расскажу о беременности после суда. Мне-то все равно.
— А кураж? — возразил Адвокат без энтузиазма. — Между прочим, я чувствовал, что я никогда не произнесу этой речи.
— Хорошо, я устрою. Какая разница, перед кем выступать? И откуда вы знаете, о чем вы мечтали?
— Действительно, — удивился Адвокат и ушел, чтобы она не догадалась.
На улице было лучше. Свежо, здорово, разумно, понятно, счастливо, определенно. Просто.
Там пели: группа «Осоавиахима» с большим макетом дирижабля.
Писатель очень любил превращаться в улицу и потому сделал «Осоавиахиму» под козырек, и «Осоавиахим» замахал ему руками.
— Допелся, идиот? — спросил Писателя его Друг, маленький, мягенький, без лица, в чесуче. — Слушай меня.
— Здравствуй, — «удивился» Писатель.
— Я достал словарь синонимов, но я положу тебе его в гроб, — сообщил Друг. — Когда тебя расстреляют, ты понял? Они два года искали повод тебя расстрелять, после письма к тебе Камю. И они его нашли.
— Ой, — Писатель взглянул на часы и заторопился. — Пойдем.
Они пошли. Потом — быстрее. Побежали. Друг рассказал:
— Узнал — случайно. Скажи спасибо, что я. Георгий тоже знает. Они приготовили суд. С большой буквы. Они сделают из тебя парашу, ты понял? Потому что нельзя сейчас в Москве, в стране, просто так сидеть и писать. Скажи спасибо, что я!.. Они написали, что ты — не гражданин.
Они добежали до «Гастронома».
— На секундочку? — попросил Писатель. — Нужно.
Они вбежали в «Гастроном», и Писатель увидел большую лохань со свежими карпами.
— Слушай, что придумал я! — кричал Друг.
— Вот эту, да? — Писатель выбрал самую большую и самую скользкую рыбу.
— Давай, — Друг, не замечая, что делает, полез в лохань ловить рыбу. Рассказывал шепотом. — Мы тебя спасем! Мы с Георгием выступим сами, понял? Ты понял? Гад, скользкая!.. Мы не дадим им сказать! Мы тебя ошельмуем сами, не по-ихнему! Мы тебя осудим, и ты отделаешься легким испугом! Ты должен только одно — молчать! Ты понял?!
— Да что ж вы, граждане? — подскочил изумленный продавец. — Есть же продавцы, сачок! Посмотрите на себя!
— Ты что, правда? — «удивился» Писатель.
Друг опомнился и обиделся. Пошел прочь, но на улице остановился и все равно решил быть бескорыстным. Дождался Писателя.
Хмуро заявил:
— Не понимаешь — не надо. Не хочешь унижаться до понимания — пусть. Обещай мне только одно — молчать. Все равно не понимаешь. Иди домой, я веду Георгия. Они не дадут тебе писать, ты понял? Раком встанешь — а не дадут. Не понимаешь. Ты — мертвый! А!.. Георгий просил дать ему что-нибудь ненапечатанное. Он сейчас пишет такую штуку, — и глаза Друга заблестели почти по-писательски. — Необычную. Хотел сначала тебя почитать. Я знаю, я для тебя ничто, но они, правда, тебя уничтожат, — закончил Друг почти как человек. Ушел.
Писатель рассмотрел витрину «Гастронома», восхитился ею. А потом все-таки оглянулся вслед Другу. Посмотрел удивленно. Серьезно.
Друг был настоящим Другом. Он вел Георгия к Писателю, и они обсуждали тихо, шепотом.
— «Несмотря на то, что он считался моим другом, сегодня я обязан быть искренним и принципиальным…» «Все считали его моим другом, и я обязан поэтому первым сделать заявление…» «Друзьями быть легко, гражданами — сложнее…»
— Смотри, смотри! — Друг даже остановился и придержал Георгия. — «Кто должен расправиться с человеком, нарушившим свой долг перед страной?!» «Друг». «Почему?» «Потому что иначе Дружба с большой буквы перестанет иметь смысл, тот великий смысл, который имеет. Который должна иметь!»
— Который имеет, — решил Георгий.
— Хорошо, — сказал Друг, и они помолчали еще один пролет.
— Нет! — Георгий остановился.
— Ну? — замер Друг.
— «Товарищи!» — сказал Георгий. — «Я прошу дать мне возможность лично уничтожить этого человека, который до сих пор считался моим другом!»
— Хорошо. Знаешь, ты все-таки молодец.
— Сейчас, чаю попьем, я запишу.
Они позвонили в дверь квартиры Писателя. Тишина. Друг тронул ручку — дверь оказалась открытой.
— Идиот, — сказал Друг. — Не дай Бог, напился! Он на самом деле ужасно уязвимый!
Они вошли — и остановились молча.
Прямо перед ними висел над дверью, Писатель. В пальто, брюках, не раздевшись, и длинный его шарф свисал и лежал одним концом на полу.
— Боже, — сказал Георгий. Глаза его заволокло.
— Идиот! — Друг сорвал с крючка, с потолка, шарф и пальто, бросил на пол плечики, которые поддерживали собой якобы Писателя. — Нет, я с ним не соскучусь. Думаешь, он просто так повесил? Он шутил! Как я сразу не подумал?!
— Какая глупость, — сказал Георгий обиженно.
Друг закурил, сел на порог и решил окончательно:
— Вот теперь!.. Именно теперь я гад буду, но я его — спасу! — и властно прижал к себе писательское пальто.
Опять носильщик — его звали Гоша — был в доме Анны, ласкал ее, очень любил ее, очень берег ее, молчал, потому что ей надо было, чтобы кто-то был все время рядом, но молчал.
Они уже никак не могли отделаться друг от друга, разойтись, разнять руки, потому что, если сделать паузу руками, пришлось бы разговаривать. Анна старалась все время держать глаза закрытыми, а Гоша все время старался, чтобы она открыла их. Он уже умел делать губами так, как она показывала, он иногда отбрасывал ее от себя, но все равно наступала пауза, когда ее тело становилось напряженным, а губы тонкими.
Он брал ее на руки и носил по комнате, потом увидел безделушку на комоде и подошел рассматривать безделушку и забыл про Анну: он всегда думал только о том, что делает. И не заметил, как она напряглась и сделала тонкие губы.
Открыла глаза — и злоба, страшная, бессильная, безысходная, опять наползла на нее.
Она подождала внимания. Внимания не было.
— А почему тебя зовут Гоша? — спросила она. — У нас в поместье было много крестьян, но что-то никаких Гош я не помню. Может быть, ты француз?
Он знал, что будет дальше, поэтому стал думать только о том, что пора уйти. И стал уходить.
— Я спросила, кажется, — сказала Анна. Он быстро одевался, не оглядываясь, чернея лицом, а Анна уже была одна и поэтому мяла ногами постель, рвала подушку и орала в потолок:
— Я другому отдана.
И буду век ему верна!! — и, вскочив, бежала за Гошей и цепляла его за волосы и рукава. — Гоша-а-а-о-у!
Он ушел — опять в последний раз, — и Анна кидала ему вслед что-то из вещей и обуви. Потом ей понравилась дверь квартиры напротив, и она стала кидать обувь туда. Оттуда выглянули, улыбаясь, в мгновение спрятались, и у Анны появился новый смысл на эти десять минут: