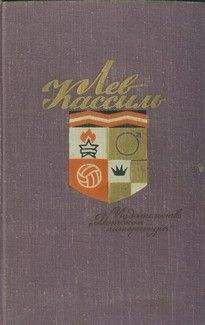Давид Самойлов - Стихи
Как жаль, что не умею я выразить тех радостных чувств и дум, которые возникли у меня на этом вечере.
О, наша чудная, единственная, счастливая страна!
(…)
13. I. (…) В школе весело. Я, Вовка и Слепян выпускаем рукописный “Веселый альманах”.
Халдеи и фискалы, конечно, не будут в него посвящены.
14. I. Вчерашний вечер был для меня знаменательным. Давно не испытывал я чувства такого глубокого счастья, которое испытано мною было вчера!
Но я лучше попытаюсь рассказать все по порядку, вдобавок и мне нужно разобраться во всем, что было сказано, решено, прочувствовано.
Итак…
Вчера к нам пришла Е.В. и привела с собой критика Ярополка Семенова. Это— молодой человек (лет около 30), высокий, красивый, с живыми глазами. Пришел он к нам впервые и сразу внушил к себе всеобщие симпатии. Судя по виду его и речам он кажется человеком искренним, живым, увлекающимся. Я, по крайней мере, просто влюблен в него. Он первый судил меня и указал мне мое место, мое призвание и мой путь.
Я начал читать ему стихи. Первыми прочел я песни из “Спартака”. Он прослушал внимательно и сказал: “В этих песнях мне нравятся две вещи. Во-первых, честная работа. Эти песни похожи на хороший перевод, кропотливо и честно сделанный. В них не видно еще самостоятельности, но если эта честность останется у тебя и впредь, то ты сможешь много сделать. Во-вторых мне понравилась сама подача Рима. Обычно он изображается в напыщенно-торжественных строках, а тут видно действительное нутро его”.
Я принялся читать дальше. Прочел “Жакерию”. Она тоже вызвала благосклонный отзыв (…)
После эпики я принялся за лирику. Прочитав “Блуждания”, я взглянул на него. Лицо его было сурово. “Знаешь что, а это хуже, гораздо хуже. Стихотворение это звучит протестом против всех блестящих формальных достижений. Я согласен, что современная поэзия тенденциозна, но не следует игнорировать хорошего. Эти мысли твои вложены в рамки традиционного классического стиха. Ты сбился с пути. (…) Вот, например, твои анапесты идут к Надсону. Если ты пойдешь слепо — ты пропал”.
Ну разве не прав он? Я обещался ему сойти с дорожки и протаптывать ее сам.
Мы долго говорили еще потом. Я не могу описать всего того, что сказал он. Я приведу только отрывки, которые запомнились мне, которые я поставил себе как вехи к достижению своей цели.
“У тебя несомненно глубокий дар, но если ты хочешь чего-нибудь добиться, то должен честно и упорно работать. Ты будешь велик только тогда, когда потомство сможет сказать: он был образованнейшим человеком своей эпохи…”
(…)
“Поэт должен быть так же недоверчив к себе, как и самоуверен”.
“У тебя, мне кажется, большая воля. Хорошо, что ты веришь в себя”.
“Принимай во внимание все мнения, но знай себе цену”.
Папа спросил: “Ну что? Можно ли пить за будущего поэта?” И он ответил: “Да”.
Так значит — я поэт!!! Хо-хо! ПОЭТ!
Расстались мы лучшими друзьями. Вот человек, который дал мне мой катехизис.
Талант мой он охарактеризовал так: “У тебя талант не как у Есенина. У того он бил ключом. В тебе он скрыт. Его талант — самородок, твой — золотой песок. Много труда и времени нужно, чтобы извлечь из него золото. Ты не будешь как Есенин, ты будешь как Гете”.
Я и Гете! Прекрасное сочетание! (…)
15. I. Ух! Сегодня я зол и взбешен, как дикий кабан. Как всегда в такие моменты наружно спокоен и холоден. Проклятая химичка! Я еще проучу ее! Спросив меня сегодня с места, за правильный ответ поставила “плохо”. Она объявила мне войну? Ладно, я ее принимаю. Это будет и интересно и полезно для всех. Не знаю, как держат таких учителей в школе? Все гадкое и подлое находит в ней покровительство. Она поощряет сплетни, фискальство, самодурство. Но мы еще посмотрим. У меня достаточно воли, чтобы сказать ей правду в глаза. (…)
Не менее подл у нас и чертежник, но к нему, как и к его предмету я чувствую глубочайшее отвращение. (…)
16. I. (…) Если женщина, заметив привлекательную силу своей женственности, начинает выставляться напоказ, искусственно культивировать ее, прелесть ее теряется. Она переходит в сознательное кокетство и от такой женщины веет какой-то противной, развратной чувственностью.
20. I. Школа глотает дни, часы, минуты. Все время одни занятия. Утром Софья и музыка, потом школа. Вечером приходишь совершенно обессиленный, не имея возможности ничем заняться.
Неужели это жизнь? Неужели всегда будет она такой, скучной, как алгебраическая формула?
Наука! Я обожаю науку! Но не школьную, скучную, сухую, порой просто ненужную, ту, которую насильно вкладывают в наши мозги. (…) Я люблю впитывать в себя науку сам. Величайшее наслаждение заниматься тем, что тебя интересует. (…)
24. I. Позавчера был у Ярополка. Он читал свою новую повесть. Он хороший критик, но плохой писатель. Я думаю через него познакомиться с Кирсановым.
Вчера произошел случай, возмутивший меня до глубины души. Были перевыборы старостата в школе. Выдвинули мою кандидатуру (…) Я отказался, мотивируя свой отказ тем, что я занят на пионерской работе. Но все запротестовали и пришлось смириться. Я прошел почти единогласно, и все были в полной уверенности, что я избран по большинству голосов. Но (…) вместо меня был посажен тип, едва набравший сорок голосов. Вот она, демократия!
Мне ничуть не жаль, что меня не выбрали, но жаль, что так профанируют свободу выборов и советскую конституцию. Комсорг, подсчитывавший голоса, не любит меня за свободу суждений и отвращение к подхалимствующим. (…)
28. I. (…) Занялся древностью и стихами. К величайшему удивлению Жоржа, увлекся Ксенофонтом и Полибием. Давно уже хотел я заполнить свой пробел в истории и надеюсь успешно это сделать.
Кроме того, принялся за драмы Сенеки. Прочел “Медею”. По правде сказать, скучновато. (…) Впрочем, может быть, что в древности эти недостатки были достоинствами. Во всяком случае длиннейшие монологи утомляют, хоры, не менее длинные, раздражают, диалоги искусственны, движения нет. (…)
Перевожу отрывки из Гюго.
В “Веселом альманахе” принимает участие наш физик Виктор Андреевич. Замечательный человек! Пьяница и неудавшийся талант.
Это придает бодрости моим сотрудникам, которые боятся выражать крайние мысли. Я не за беспощадную критику всего. Я им даже заявил, что если засыпемся, отвечаю за все я. Думаю, что сумею закрутить голову халдеям.
Т.Ц. не ходит, наверное опять больна. А мне так хочется ее видеть!
(…) Она стала еще более недосягаемой и потому еще более желанной для меня.
30. I. (…) Я взял незнакомую книгу незнакомого писателя и хочу составить себе о нем определенное представление. Человек этот — Игорь Северянин. О его сборнике “Громокипящий кубок” и буду писать я сегодня.
(…) Так всегда бывает у больших талантов, в периоды безвременья, реакции, упадка, декадентства. (…) Человек начинает жить только собой, он начинает презирать мир, ему кажется низким человек и бедным его язык. Он изобретает свой язык, свои слова, чтобы изобразить свои чувства. Такими словами изобилуют поэмы Северянина. (…)
Поэт одинок и затравлен, поэтому мы многое можем простить ему, но нельзя не признать его блестящим поэтом и тонким мастером формы. Его “Рондели”, “Nocturno”, “Квадрат квадратов” и многие другие вещи сделаны изумительно. Ими хочется любоваться как маленькими, тонкими и хрупкими фарфоровыми вещицами.
Замолкнули взволнованные губы.
Ушел поэт, страдалец, человек.
Он выпил как громокипящий кубок
Свой пьяный грезами и вдохновенный век.
30. II. (…) Я осмелился поднять голос против самодурства химички. (…) Сообщаю кратко, т. к. хочется спать.
Было классное собрание. Многие высказывались. Решили, что нужно бороться. (…)
У директора. Химичка не явилась. (…) Директор (…) соглашается с моими доводами. Заявляет, что поведение химички исправится. Общественное дело — выиграно. (…)
11. II. Период морального равновесия пришел снова. (…) И главное — я укрепил в себе мои внутренние принципы и чувствую, что твердо следую им. (…)
О, как хорошо быть хорошим! (…)
Мои мысли о будущем, о философии, об истории, о моей любви. Но смысл моих мыслей в словах тонет, и мое задушевное звучит неискренне, когда порой я начинаю говорить. (…)
Но все же я рад, что люблю, что живу, что учусь. Все легко на свете… (…)
6. III. Только что я был на вечере, на еврейском вечере, посвященном столетию со дня рождения Менделе Мойхер-Сфорим. Странные, новые и приятные чувства испытал я. Это был почти единственный раз, когда я почувствовал свой народ и глубокая теплота к нему зародилась в моем сердце.
В сущности у меня нет народа. Дух еврейства чужд, непонятен, далек мне. По убеждениям я — интернационалист, а по духу… тоже. И все же что-то сближает меня с этим народом. И уверен я, что, приключись с ним еще какие-нибудь беды, я не уйду от него и смело приму вместе с моими братьями любое страдание.