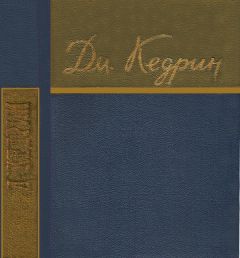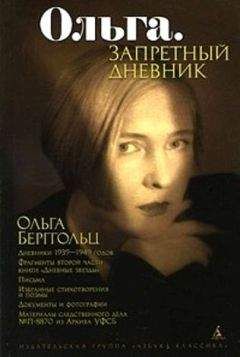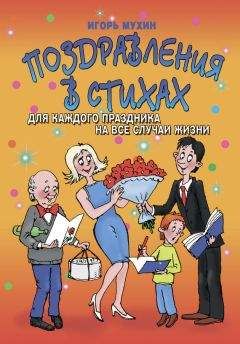Иосиф Бродский - Стихотворения и поэмы (основное собрание)
потеря из виду, чем вид потери.
Когда умру, пускай меня сюда
перенесут. Я никому вреда
не причиню, в песке прибрежном лежа.
Объятий ласковых, тугих клешней
равно бежавшему не отыскать нежней,
застираннее и безгрешней ложа.
1974
-----------------
Темза в Челси
I
Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак,
замирает на банке соды в стекле аптеки.
Ветер находит преграду во всех вещах:
в трубах, в деревьях, в движущемся человеке.
Чайки бдят на оградах, что-то клюют жиды;
неколесный транспорт ползет по Темзе,
как по серой дороге, извивающейся без нужды.
Томас Мор взирает на правый берег с тем же
вожделением, что прежде, и напрягает мозг.
Тусклый взгляд из себя прочней, чем железный мост
принца Альберта; и, говоря по чести,
это лучший способ покинуть Челси.
II
Бесконечная улица, делая резкий крюк,
выбегает к реке, кончаясь железной стрелкой.
Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк,
и деревья стоят, словно в очереди за мелкой
осетриной волн; это все, на что
Темза способна по части рыбы.
Местный дождь затмевает трубу Агриппы.
Человек, способный взглянуть на сто
лет вперед, узреет побуревший портик,
который вывеска "бар" не портит,
вереницу барж, ансамбль водосточных флейт,
автобус у галереи Тэйт.
III
Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни жесть
для него не преграда, ни кепка или корона.
Лишь у тех, кто зонты производит, есть
в этом климате шансы захвата трона.
Серым днем, когда вашей спины настичь
даже тень не в силах и на исходе деньги,
в городе, где, как ни темней кирпич,
молоко будет вечно белеть на сырой ступеньке,
можно, глядя в газету, столкнуться со
статьей о прохожем, попавшим под колесо;
и только найдя абзац о том, как скорбит родня,
с облегченьем подумать: это не про меня.
IV
Эти слова мне диктовала не
любовь и не Муза, но потерявший скорость
звука пытливый, бесцветный голос;
я отвечал, лежа лицом к стене.
"Как ты жил в эти годы?" -- "Как буква "г" в "ого".
"Опиши свои чувства". -- "Смущался дороговизне".
"Что ты любишь на свете сильнее всего?" -
"Реки и улицы -- длинные вещи жизни".
"Вспоминаешь о прошлом?" -- "Помню, была зима.
Я катался на санках, меня продуло".
"Ты боишься смерти?" -- "Нет, это та же тьма;
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула".
V
Воздух живет той жизнью, которой нам не дано
уразуметь -- живет своей голубою,
ветреной жизнью, начинаясь над головою
и нигде не кончаясь. Взглянув в окно,
видишь шпили и трубы, кровлю, ее свинец;
это -- начало большого сырого мира,
где мостовая, которая нас вскормила,
собой представляет его конец
преждевременный... Брезжит рассвет, проезжает почта.
Больше не во что верить, опричь того, что
покуда есть правый берег у Темзы, есть
левый берег у Темзы. Это -- благая весть.
VI
Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы.
Сердце может только отстать от Большого Бена.
Темза катится к морю, разбухшая, точно вена,
и буксиры в Челси дерут басы.
Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь
он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежней.
И когда в нем спишь, номера телефонов прежней
и бегущей жизни, слившись, дают цифирь
астрономической масти. И палец, вращая диск
зимней луны, обретает бесцветный писк
"занято"; и этот звук во много
раз неизбежней, чем голос Бога.
1974
-----------------
Колыбельная Трескового Мыса
А. Б.
I
Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады
умолкают в траве газонов. Классические цитаты
на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно
чернеет, словно бутылка, забытая на столе.
Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре,
звякают клавиши Рэя Чарльза.
Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже
зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи,
дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне
лязгают ножницами. Пот катится по лицу.
Фонари в конце улицы, точно пуговицы у
расстегнутой на груди рубашки.
Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство
передвиженья по комнате к тумбочке с виски. Сердце
замирает на время, но все-таки бьется: кровь,
поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку.
Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку,
и на севере поднимают бровь.
Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль
покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль
продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду.
Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч.,
превращая их не столько в бежавших прочь,
как в пропавших из виду.
Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от
какового еще сильней выступает пот.
То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь одним -- звездою.
Птица, утратившая гнездо, яйцо
на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо.
Пахнет мятой и резедою.
II
Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырех сторон -- хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.
Дуя в полую дудку, что твой факир,
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот, с соленым
вкусом этой воды во рту,
я пересек черту
и поплыл сквозь баранину туч. Внизу
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.
Супротив друг друга стояли, топча росу,
точно длинные строчки еще не закрытой книги,
армии, занятые игрой,
и чернели икрой
города. А после сгустился мрак.
Все погасло. Гудела турбина, и ныло темя.
И пространство пятилось, точно рак,
пропуская время вперед. И время
шло на запад, точно к себе домой,
выпачкав платье тьмой.
Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчелки жало.
Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала,
как это делает отродясь
плоская вещь: пылясь.
III
Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже
одиночество. Кожа спины благодарна коже
спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на
подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск
покрывает костяшки суставов. Мозг
бьется, как льдинка о край стакана.
Духота. На ступеньках закрытой биллиардной некто
вырывает из мрака свое лицо пожилого негра,
чиркая спичкой. Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
в ожидании вспышки случайных фар
утопает в пышной листве. И надо
всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара,
письмена "Кока-колы". В заросшем саду курзала
тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз,
не сумевши извлечь из прутьев простой рулады,
шебуршит газетой в литье ограды,
сооруженной, бесспорно, из
спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся на ружьё,
Неизвестный Союзный Солдат делается еще
более неизвестным. Траулер трется ржавой
переносицей о бетонный причал. Жужжа,
вентилятор хватает горячий воздух США
металлической жаброй.
Как число в уме, на песке оставляя след,
океан громоздится во тьме, миллионы лет
мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко
шагнуть с дебаркадера вбок, вовне,
будешь долго падать, руки по швам; но не
воспоследует всплеска.
IV
Перемена империи связана с гулом слов,
с выделеньем слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). И она,
перемена, связана с колкой дров,
с превращеньем мятой сырой изнанки
жизни в сухой платяной покров
(в стужу -- из твида, в жару -- из нанки),
с затвердевающим под орех
мозгом. Вообще из всех
внутренностей только одни глаза
сохраняют свою студенистость. Ибо
перемена империи связана с взглядом за
море (затем, что внутри нас рыба
дремлет); с фактом, что ваш пробор,
как при взгляде в упор
в зеркало, влево сместился... С больной десной
и с изжогой, вызванной новой пищей.
С сильной матовой белизной
в мыслях -- суть отраженьем писчей
гладкой бумаги. И здесь перо
рвется поведать про
сходство. Ибо у вас в руках
то же перо, что и прежде. В рощах