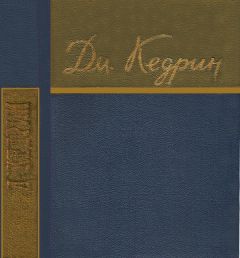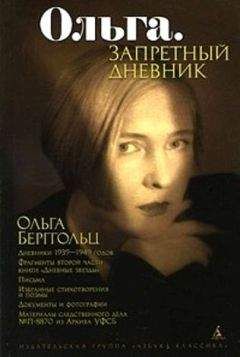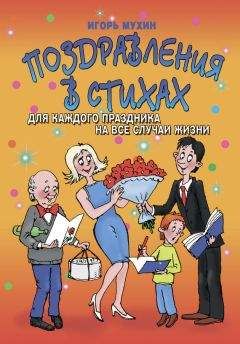Иосиф Бродский - Стихотворения и поэмы (основное собрание)
звук плывет над селеньями в сторону Куршской Косы.
То Святой Казимир
с Чудотворным Николой
коротают часы
в ожидании зимней зари.
За пределами веры,
из своей стратосферы,
Муза, с ними призри
на певца тех равнин, в рукотворную тьму
погруженных по кровлю,
на певца усмиренных пейзажей.
Обнеси своей стражей
дом и сердце ему.
1974
-----------------
На смерть друга
Имяреку, тебе, -- потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, -- от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса -
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей -
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.
1973
-----------------
Война в убежище Киприды
Смерть поступает в виде пули из
магнолиевых зарослей, попарно.
Взрыв выглядит как временная пальма,
которую раскачивает бриз.
Пустая вилла. Треснувший фронтон
со сценами античной рукопашной.
Пылает в море новый Фаэтон,
с гораздо меньшим грохотом упавший.
И в позах для рекламного плаката
на гальке, раскаленной добела,
маячат неподвижные тела,
оставшись загорать после заката.
21 июля 1974
-----------------
"Барбизон Террас"
Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне.
Постояльцы храпят, не снимая на ночь
черных очков, чтоб не видеть снов.
Портье с плечами тяжелоатлета
листает книгу жильцов, любуясь
внутренностями Троянского подержанного коня.
Шелест кизилового куста
оглушает сидящего на веранде
человека в коричневом. Кровь в висках
стучит, как не принятое никем
и вернувшееся восвояси морзе.
Небо похоже на столпотворение генералов.
Если когда-нибудь позабудешь
сумму углов треугольника или площадь
в заколдованном круге, вернись сюда:
амальгама зеркала в ванной прячет
сильно сдобренный милой кириллицей волапюк
и совершенно секретную мысль о смерти.
1974
-----------------
20 сонетов к Марии Стюарт
I
Мари, шотландцы все-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады?
И Люксембургский, в частности? Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и пруды.
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,
и так как "все былое ожило
в отжившем сердце", в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу, что осталось в русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.
II
В конце большой войны не на живот,
когда что было, жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовет
назад, в "Спартак", в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная -- брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.
III
Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад
вперед гуляют дамы, господины,
жандарм синеет в зелени, усат,
фонтан мурлычит, дети голосят,
и обратиться не к кому с "иди на".
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг -
французских королев во время оно -
безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит, как помесь Пантеона
со знаменитой "Завтрак на траве".
IV
Красавица, которую я позже
любил сильней, чем Босуэла -- ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически "о, Боже",
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.
Во избежанье роковой черты,
я пересек другую -- горизонта,
чье лезвие, Мари, острей ножа.
Над этой вещью голову держа,
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.
V
Число твоих любовников, Мари,
превысило собою цифру три,
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
Нет для короны большего урона,
чем с кем-нибудь случайно переспать.
(Вот почему обречена корона;
республика же может устоять,
как некая античная колонна).
И с этой точки зренья ни на пядь
не сдвинете шотландского барона.
Твоим шотландцам было не понять,
чем койка отличается от трона.
В своем столетьи белая ворона,
для современников была ты блядь.
VI
Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги,
Все разлетелось к черту, на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! все не по-людски!
Я Вас любил так сильно, безнадежно,
как дай Вам бог другими -- -- -- но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит -- по Пармениду -- дважды
сей жар в груди, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться -- "бюст" зачеркиваю -- уст!
VII
Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового -- концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать -- ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши "как живешь?"
В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы -- праздник носоглотки.
И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордоворот в косоворотке.
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе.
VIII
На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном,
и я бы отвечал тебе "Alas".
Шотландия нам стлала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретили бы вместе смертный час.
Топор бы оказался деревянным.
IX
Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения. "Ты кто такой?" -- "А сам ты?"
"Я кто такой?" -- "Да, ты". -- "Мы протестанты".
"А мы -- католики". -- "Ах, вот как!" Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дрязг.
Потом -- зима, узорчатые санки,
примерка шали: "Где это -- Дамаск?"
"Там, где самец-павлин прекрасней самки".
"Но даже там он не проходит в дамки"
(за шашками -- передохнув от ласк).
Ночь в небольшом по-голливудски замке.
Опять равнина. Полночь. Входят двое.
И все сливается в их волчьем вое.
X
Осенний вечер. Якобы с Каменой.
Увы, не поднимающей чела.
Не в первый раз. В такие вечера
всё в радость, даже хор краснознаменный.
Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменой
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга. К подержанным вещам,
имеющим царапины и пятна,
у времени чуть больше, вероятно,
доверия, чем к свежим овощам.