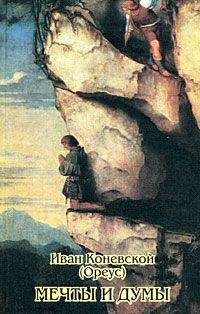Дмитрий Быков - Военный переворот (книга стихов)
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ДМОХОВСКОГО
Что-то часто стал вспоминать о Коле.
Погулять его отпустили, что ли,
поглядеть на здешнюю жизнь мою,
но о чем он хочет сказать, сбегая
Из родного края его, из рая?
Я и впрямь уверен, что он в раю.
Да и где же, вправду, как не в Эдеме?
Не в одной же огненной яме с теми,
Кто послал его добывать руду,
Доходить в Норильске, молясь на пайку,
за пустую шутку, смешную байку?
За него им точно гореть в аду.
Оттого он, видно, и сел в тридцатых,
Что не смог вписаться в наземный ад их
Сын поляка, ссыльного бунтаря,
гитарист, хохмач, балагур беспечный,
громогласный, шумный ребенок вечный,
Пустозвон, по совести говоря.
На изрядный возраст его не глядя,
Я к нему обращался без всяких "дядя"
И всегда на ты — никогда на вы,
не нуждаясь в каком-либо этикете,
потому что оба мы были дети
И имели нимб вокруг головы.
Он являлся праздничный, длинный, яркий,
Неизменно мне принося подарки
Большей частью вафли. Из всех сластей
Эти вафли он уважал особо.
Шоколадный торт, например, до гроба
Оставался одной из его страстей.
На гитаре мог он играть часами,
потрясая желтыми волосами,
Хохоча, крича, приходя в экстаз,
Так что муж соседки, безумно храбрый,
К нам стучался снизу своею шваброй
(Все соседи мало любили нас).
Он любил фантастику — Лема, Кларка.
Он гулял со мной по дорожкам парка,
Близ Мосфильма — чистый monsieur l'Abbe,
Он щелчками лихо швырял окурки,
Обучал меня непременной "Мурке",
Но всегда молчал о своей судьбе.
Он писал картины — каков характер!
В основном пейзажи чужих галактик:
То глазастый кактус глядит в упор,
То над желто-белой сухой пустыней
Птичий клин — клубящийся, дымно-синий,
По пути на дальние с ближних гор.
Полагаю, теперь он в таких пейзажах,
Ибо мир людей ему был бы тяжек,
А любил он космос, тела ракет,
Силуэты гор, низверженье ливней,
И ещё нездешней, ещё предивней
Но чего мы любим, того здесь нет.
В раннем детстве я на него молился,
Подрастая, несколько отдалился,
А потом и темы искал с трудом,
Но душа моя по привычке старой
наполнялась счастьем, когда с гитарой,
в вечной "бабочке", он заявлялся в дом.
Он был другом дома сто лет и боле.
Я не помню нашей семьи без Коли.
Подражая Коле, я громко ржал,
Начинал курить, рисовал пейзажи,
У меня и к мату привычка та же…
Он меня и в армию провожал.
И пока я там. В сапогах и форме,
Строевым ходил и мечтал о корме,
за полгода Колю сгубил нефрит.
Так что мне осталась рисунков пара,
Да его слова, да его гитара,
Да его душа надо мной парит.
Умирал он тяжко, в больничной койке.
Даже смерти легкой не дали Кольке.
Что больницы наши? — та же тюрьма…
Он не ладил с сестрами и врачами,
вырывал катетер, кричал ночами,
под конец он просто сошел с ума.
Вот теперь и думаю я об этой
Тяжкой жизни, сгинувшей, невоспетой,
О тюрьме, о старческом злом гроше
С пенсионной северною надбавкой,
Магазинах с давках, судьбе с удавкой
И о дивно легкой его душе.
Я не знаю, как она уцелела
в непрерывных, адских терзаньях тела,
Я понять отчаялся, почему
Так решил верховный судья на небе,
Что тягчайший, худший, жалчайший жребий
Из мильона прочих выпал ему.
Он, рожденный лишь для веселой воли,
Доказать его посылали, что ли,
Что земля сурова, что жизнь грязна,
Что любую влагу мы здесь засушим,
что не место в мире веселым душам,
что на нашей родине жить нельзя?
Коля, сделай что-нибудь! Боже, Боже,
Помоги мне выбраться! Я ведь тоже
золотая песчинка в твоей горсти.
Мне противна зрелость, суровость, едкость,
Я умею счастье, а это редкость,
но науку эту забыл почти.
Да и как тут выживешь, сохраняя
Эту радость, это дыханье рая,
Сочиняя за ночь по пять статей,
Да плевать на них, я работал с детства,
но куда мне, Коля, куда мне деться
От убогих старцев, больных детей,
От кошмаров мира, от вечных будней?
На земле становится многолюдней,
но ещё безвыходней и серей.
Этот мир засасывает болотом,
Сортирует нас по взводам и ротам
И швыряет в пасти своих зверей.
О какой вы смеете там закалке
Говорить? Давно мне смешны и жалки
все попытки оправдывать божество.
В этой вечной горечи, в лютой скуке,
В этом холоде — нет никакой науки.
Под бичом не выучишь ничего.
Как мне выжить, Коля, когда мне ведом
Этот мир с его беспрерывным бредом,
Мир больниц, казарм, палачьих утех,
Голодовок, выправок, маршировок,
Ледяных троллейбусных остановок
Это тоже пытка, не хуже тех?
Оттого-то, может быть, оттого-то
в этой маске мирного идиота
Ты бродил всю жизнь по своей стране.
Может быть, и впрямь ты ушел в изгнанье
Добровольное, отключив сознанье?
Но и этот выход не светит мне.
Я забыл, как радоваться. Я знаю,
Как ответить местному негодяю,
Как посбить его людоедский пыл,
Как прижаться к почве, страшась обстрела,
Как ласкать и гладить чужое тело…
Я забыл, как радоваться. Забыл.
Для чего гостил ты, посланник света,
в тех краях, где грех вспоминать про это,
где всего-то радости — шоколад,
где царит норильский железный холод,
где один и тот же вселенский молот
То дробит стекло, то плющит булат?
НОВЫЕ СТИХИ
* * *
Жизнь выше литературы, хотя скучнее стократ.
Все наши фиоритуры не стоят наших затрат.
Умение строить куры,
искусство уличных драк
все выше литературы. Я правда думаю так.
Покупка вина, картошки,
авоська, рубли, безмен
важнее спящих в обложке банальностей
и подмен.
Уменье свободно плавать в пахучей густой возне
важней уменья плавить слова на бледном огне.
Жизнь выше любой удачи в познании ремесла,
Поскольку она богаче названия и числа.
Жизнь выше паскудной страсти её загонять
в строку,
Как целое больше части, кипящей в своем соку.
Искусство — род сухофрукта,
ужатый вес и объем,
Потребной только тому, кто
не видел фрукта живьем.
Страдальцу, увы, не внове
забвенья искать в труде,
но что до бессмертия в слове
бессмертия нет нигде.
И ежели в нашей братье найдется один из ста,
Который пошлет проклятье войне пера и листа,
И выскочит вон из круга
в разомкнутый мир живой
Его обниму, как друга, к плечу припав головой.
Скорее туда, товарищ, где сплавлены рай и ад
в огне веселых пожарищ, — а я побреду назад,
Где светит тепло и нежаще
убогий настольный свет
Единственное прибежище для всех,
кому жизни нет.
Мне страшно жить и страшно умереть.
И там, и здесь отпугивает бездна.
Однако эта утварь, эта снедь
Душе моей по-прежнему любезна.
Любезен вид на свалку из окон
И разговор, где все насквозь знакомо,
затем, что жизнь сама себе закон,
А в смерти нет и этого закона.
Еще надежда теплится в дому
И к телу льнет последняя рубашка.
Молись за тех, Офелия, кому
не страшно жить и умирать не тяжко.
Когда бороться с собой
устал покинутый Гумилев,
Поехал в Африку он
и стал охотиться там на львов.
За гордость женщины, чей каблук
топтал берега Невы,
за холод встреч и позор разлук
расплачиваются львы.
Воображаю: саванна, зной,
песок скрипит на зубах…
поэт, оставленный женой,
прицеливается. Бабах.
Резкий толчок, мгновенная боль…
Пули не пожалев,
Он ищет крайнего. Эту роль
играет случайный лев.
Любовь не девается никуда,
а только меняет знак,
Делаясь суммой гнева, стыда,
и мысли, что ты слизняк.
Любовь, которой не повезло,
ставит мир на попа,
Развоплощаясь в слепое зло
(так как любовь слепа).
Я полагаю, что нас любя,
как пасечник любит пчел,
Бог недостаточной для себя
нашу взаимность счел
Отсюда войны, битье под дых,
склока, резня и дым:
Беда лишь в том, что любит одних,
а палит по другим.
А мне что делать, любовь моя?
Ты была такова,
Но вблизи моего жилья
нет и чучела льва.
А поскольку забыть свой стыд
я ещё не готов,
Я, Господь меня да простит,
буду стрелять котов.
Любовь моя, пожалей котов!
Виновны ли в том коты,
Что мне, последнему из шутов,
необходима ты?
И, чтобы миру не нанести
слишком большой урон,
Я, Создатель меня прости,
буду стрелять ворон.
Любовь моя, пожалей ворон!
Ведь эта птица умна,
А что я оплеван со всех сторон,
так это не их вина.
Но, так как злоба моя сильна
и я, как назло, здоров,
Я, да простит мне моя страна,
буду стрелять воров.
Любовь моя, пожалей воров!
Им часто нечего есть,
И ночь темна, и закон суров,
и крыши поката жесть…
Сжалься над миром, с которым
я буду квитаться за
Липкую муть твоего вранья
и за твои глаза!
Любовь мая, пожалей котов,
сидящих у батарей,
Любовь моя, пожалей скотов,
воров, детей и зверей,
Меня, рыдающего в тоске
над их и нашей судьбой,
И мир, висящий на волоске,
связующем нас с тобой.
Утешься, я несчастен с ней,
Как ты со мной была когда-то.
Просрочен долг, но тем ясней
И несомненнее отплата.
И я, уставши уличать,
Дежурю на подходе к дому
И отвыкаю замечать
заметное уже любому.
Что делать! За такой режим
нам платят с рвением натужным
не нашим счастьем, а чужим
несчастьем, вовсе нам не нужным.
Когда неотвратимый суд
все обстоятельства изучит,
Не то что мне её вернут:
О нет, её с другим измучат.
Как нам с тобой не повезло!
Здесь воздают — и то не сразу
По всей программе злом за зло,
но за добро добром — ни разу.
Она ответит, но не мне,
а той вполне безликой силе,
Что счет вела любой вине,
Хоть мы об этом не просили.
О, цепь долгов и платежей,
Коловращение, в котором
Один из двух чужих мужей
невольно станет кредитором!
Она решит, что я дурак,
И бросится к нему на шею,
И будет с ним несчастна так,
Как я ни разу не был с нею.
Нас разводит с тобой. Не мы ли
Предсказали этот облом?
Пересекшиеся прямые
Разбегаются под углом.
А когда сходились светила,
начиная нашу игру,
Помнишь, помнишь, как нас сводило
Каждый день на любом углу?
Было шагу не сделать, чтобы
не столкнуться с тобой в толпе
возле булочной, возле школы,
возле прачечной и т. п.
Мир не ведал таких идиллий!
Словно с чьей-то легкой руки
По Москве стадами бродили
наши бледные двойники.
Вся теория вероятий
ежедневно по десять раз
Пасовала тем виноватей,
Чем упорней сводили нас.
Узнаю знакомую руку,
Что воспитанникам своим
вдруг подбрасывает разлуку:
Им слабо разойтись самим.
Расстоянье неумолимо
возрастает день ото дня.
Я звоню тебе то из Крыма,
То из Питера, то из Дна,
Ветер валит столбы-опоры,
Телефонная рвется связь,
Дорожают переговоры,
Частью замысла становясь.
И теперь я звоню из Штатов.
На столе счетов вороха.
Кто-то нас пожалел, упрятав
Друг от друга и от греха.
Между нами в полночной стыни,
Лунным холодом осиян,
всею зябью своей пустыни
Усмехается океан.
Я выкладываю монеты,
И подсчитываю расход,
И не знаю, с какой планеты
Позвоню тебе через год.
Я сижу и гляжу на Спрингфилд
На двенадцатом этаже.
Я хотел бы отсюда спрыгнуть,
Но в известной мере уже.
…Жертва
Должна вести себя однообразно:
Когда она стенает и рыдает,
Мучителю быстрей надоедает.
Какой ему резон, на самом деле,
Терпеть повтор одной и той же роли?
А мы с тобой, душа моя, то пели,
То выли, то приплясывали, что ли,
пуская всякий раз другие трели,
Когда менялся лишь характер боли.
Душа моя, боюсь, что этим самым
Мы только пролонгировали пытку,
Давая доморощенным де Садам
Свою незаменимую подпитку:
Мы словно добавляли им азарта,
Когда они в смущенье вороватом
Себя ласкали мыслью, что назавтра
Побалуются новым вариантом;
Мы как бы поставляли им резоны,
Давая убедительную фору
Лишь тем, что облекали наши стоны
в почти безукоризненную форму.
Душа моя, довольно ты страдала!
Пора держаться строгого стандарта
И не прельщать мучителя соблазном
Разнообразья в мире безобразном.
Не развлекая ката новостями,
Одним и тем же ограничься стилем
Иначе этот путь над пропастями
Мы никогда с тобою не осилим.
За двести баксов теперь уже не убьют.
Глядишь, не убьют за триста и за пятьсот.
В расхристанный мир вернулся былой уют,
И сам этот мир глядится подобьем сот.
У каждого в нем ячейка, удел, стезя,
Как учит иерархичный, строгий восток.
Уют без сверчка представить себе нельзя,
А каждый сверчок обязан иметь шесток.
Бывали дни, когда под любым листом
Компания, стол и дом, и прыжки с шестом;
А нынче — душа по нише, постель жестка:
Сверчок не прыгает выше свово шестка.
Вселенная отвердела, и мой удел
Эпоха не отпускает своих детей
Обрел черты, означился. Отвердел
И больше не дразнит веером ста путей.
Что было небо — сделалось потолком,
что было немо — сделалось языком,
Что было "нео" — просит приставку "экс".
Что было "недо" — сделалось "пере". Тэк-с.
Период броженья кончен. Ему вослед
Глядит закат, предсказывая откат.
Довольно с нас и того, что десяток лет
"Е" не всегда равнялось "эм-це-квадрат".
Скоты, уроды, гад, казнокрад, уклад
Уже явленья природы. Как дождь и град.
Всяк бунт в Отчизне — переворот в гробу.
Отвердеванье жизни — уже в судьбу.
Во всем простота, смиренье, и даль чиста.
Медлительное паренье листа, листа
Разлапистого, под коим построим дом,
Наполненный то покоем, а то трудом.
Мне сладко бродить по этой листве, листве,
вчера — игралищу ветра, теперь — ковру.
Мне сладко думать, что мы состоим в родстве,
Хотя оно и порукой, что я умру.
Скрипят качели, бегает детвора,
проходят пары нежные, как в раю…
О, воздух века, пьяный ещё вчера!
О, скрип колеса, попавшего в колею!
Мне, в общем, по нраву и воздух, и колея.
Я выбрал её по праву. Она моя.
Люблю этот день погожий, листву, траву.
Не трогай меня, прохожий. Я здесь живу.
Если б молодость знала и старость могла
Но не знает, не может; унынье и мгла,
Ибо знать — означает не мочь в переводе.
Я и сам ещё что-то могу потому,
Что не знаю всего о себе, о народе
И свою неуместность нескоро пойму.
Невозможно по карте представить маршрут,
Где направо затопчут, налево сожрут.
Можно только в пути затвердить этот навык
Приниканья к земле, выжиданья, броска,
Перебежек, подмен, соглашений, поправок,
То есть Господи Боже, какая тоска!
Привыкай же, душа, усыхать по краям,
Чтобы этой ценой выбираться из ям,
не желать, не жалеть, не бояться ни слова,
ни ножа; зарастая коростой брони,
привыкай отвыкать от любой и любого
И бежать, если только привыкнут они.
О сужайся, сожмись, забывая слова,
Предавая надежды, сдавая права,
Усыхай и твердей, ибо наша задача
не считая ни дыр, ни заплат на плаще,
не любя, не зовя, не жалея, не плача,
Под конец научиться не быть вообще.
УТРЕННЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ