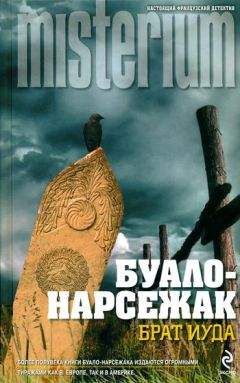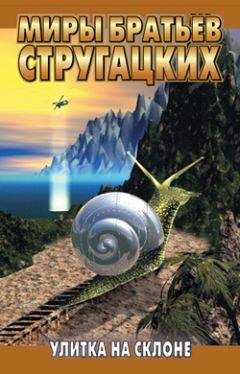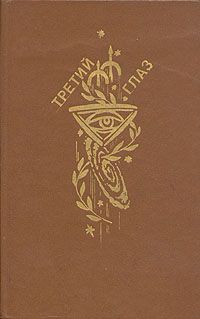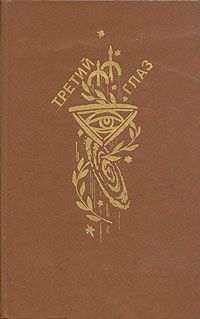Леонид Латынин - Праздный дневник
Из книги «Фонетический шум»
* * *Это жизнь налетает как ветер,
Крышу рвет и бросает во тьму,
Словно нету мне места на свете
Даже в собственном бедном дому.
Что я значу средь этой юдоли,
Что оставлю на скучной земле? —
Крохи мысли в убогом глаголе,
Крохи уголий в белой золе?
А еще – невесомее пуха,
Незаметнее тени тенет,
Тускло, скучно, устало и глухо
То ли женщина, то ли старуха
Мне прошепчет в открытое ухо
Безнадежно и бережно: – Нет…
За окном какой-то город
И какой-то вдруг народ,
По друзьям небывшим голод,
По врагам – наоборот.
Но, увы, ни то, ни это
Избежать вполне нельзя:
Эмиграция поэта —
Неизбежная стезя.
Я судьбу сию не мину,
Жизнь на мелочи дробя,
И отечество покину,
Уходя себе в себя.
И забуду аты-баты,
Ваши всуе языки
И поганкины палаты
У разлучины Оки.
И потом, к финалу ближе,
Может, вспомню: хоть умри,
Был в женеве и париже
Инородцем, как в твери.
Небес отверстых половина
Легла на камни вдалеке.
Еще дымится пуповина,
Отражена в земной реке.
Но пробил час чумы и страха,
Кнута и пряника уже,
Еще смирительней рубаха
Летит на пятом этаже.
Она зовет себе и плачет,
Она смеется и поет,
Как будто день прошедший начат,
Не прожитый от «до» до «от».
И я вослед с надеждой тати,
Следя за взмахом рукава,
Летаю рядом на кровати,
В окно не вылетев едва.
Судьба озвучилась не сразу,
Случившись прежде, чем прийти,
Не вслух промямлив полуфразу
С восьми до полудевяти.
И, развалясь в углу дивана,
На ногу ногу положа,
Шутя позволила ивану
Питаться яблоком с ножа.
И в полудреме выпив пива,
Она уснула до утра —
Судьба, увы, была ленива,
Слаба, доверчива, стара, —
Пока не выглянуло что-то,
Стекло рассветом осеня,
И началась ее забота,
Как будто не было меня.
К. Прошутинской
А. Малкину
На полу – правее чурки, мирно спящей с перепою,
На полу – левее входа на небесные полати,
Он поет внутри пространства с той тоскою неземною,
Что известна только волку, но крылатому некстати.
В промежутке меж столетий, между рыбою и хреном,
Между сном и вспышкой блица, между музыкой и страхом,
В этом времени коротком, в этом времени мгновенном,
Что кончается когда-то – воскрешением и прахом.
В этом времени просторном, где в бассейне дремлют куры,
В парнике в сугробе белом запеленатые розы,
Где летают в полушубках посиневшие амуры,
Несмотря на все метели, несмотря на все морозы.
И легко нелепый лепет с хрипотцою небольшою,
Как дымок от сигареты, потечет в миры иные,
Где мы вместе жили тесно, вразнобой дыша душою,
Согревая музыкантов пальцы в кольцах ледяные.
Ни на шаг не ближе света, поздней ночью в воскресенье,
Ни на шаг не ближе солнца к моему кривому дому,
Возле церкви у Никитских, бедной церкви Вознесенья,
Примыкающей проездом и к Гоморре, и к Содому.
Не построив – не разрушишь, не разрушив – не построишь,
Тяп да ляп, кривые доски, долото, шипы, зубило.
Что ты, тварь земная, хочешь, что ты, тварь живая, стоишь,
Отчего так душу трезву зазнобила, зазнобила?
Тварь, товар, Творец Небесный, Тора, трубы, холод местный.
Где тебя, трепло, носило, где тебя, скажи, мотало? —
Вид твой тусклый, взгляд твой жалкий, мелкий, тесный,
Неизвестный, неуместный, пасть удава, в пасти жало.
На, возьми, что хочешь, с лету, заглоти с лихвой и гаком,
Удави своей удавкой, что скоромностью прикрыла.
Я помечен был когда-то непонятным людям знаком,
Посему не мог не ползать, где положено бескрыло.
И еще – не мучай долго, жизнь и так полна надежды,
Под Содомом плещет Волга, стынет берег одиноко,
Обещай любить не больно, закрывая дланью вежды,
Занавесивши подолом мне недреманное око.
Пришла судьба и села,
Сказала чуть дыша:
– Любимый мой, несмело
Устроена душа,
Запутанно немного,
Распутаннее чуть,
Чем путь от нас до Бога
И дальше даже путь.
Пришла судьба, спросила,
К восходу наклонясь:
– Где Вас с утра носило,
Мой нареченный князь?
Едва я Вас застала,
Когда спустилась тьма,
Но этого мне мало,
Чтобы сойти с ума.
Придется потрудиться
И время наверстать,
Я бабочка, не птица,
Хотя могу летать.
Пришла судьба с дороги,
Убога и стара.
И все-таки, в итоге,
Когда пришла пора.
Благодарю вас за «люблю»
В начале января,
За то, что жизнь свою продлю
Вне стен календаря.
Благодарю вас, как могу,
Неловко и всерьез
За эти руки на бегу
У ледяных берез.
Благодарю, когда войду
В открытый настежь крик
И в этом медленном аду
Засну с тобой на миг.
За тайный жар и там на дне
Нетронутую плоть,
Благодарю, что Ты ко мне
Так милосерд, Господь.
Еще за то, что, выжить чтоб,
Поверив и в игру,
Я буду пить ее взахлеб,
Покуда не умру.
В Венеции, может быть, в Риме,
На темно-атласной парче
Возникло нежданное имя,
Что губы твои изрече.
Витала по небу остуда,
И март забирался в зенит,
Спросила ты молча, откуда
В душе твоей имя звенит.
И я, не ответив, коснулся
Щеки твоей теплой щекой,
Опять на мгновенье проснулся
От спячки своей вековой,
Медвежьей, мохнатой и грубой,
В тотемно-барочном мирке,
Под – с кожею снятою – шубой,
С рукою живою в руке.
Свет истины все же неярок
И, может, увы, неглубок.
Черти свою жизнь без помарок
На запад или на восток,
А лучше на север убогий,
Что тянется к югу тайком
И связан с тобою дорогой,
Как с горлом таинственный ком,
Как связана жизнь ненароком
С посмертным гореньем души,
Как Библия – с первым пророком
В зачуханной жаркой глуши,
Как некто с никем до порога,
К которому движемся мы.
В тебя мне открылась дорога
Случайно в начале зимы.
И свет не кончается боле
И движется, еле светя,
Где слышно, как плачет в неволе
Пока еще наше дитя.
Напомните мне о распахнутом небе,
И в центре мерцающей ярко звезде,
И в Дельфы летящей оранжевой Фебе,
Светящейся нежно в январском дожде,
Где шпиль упирается пальцами в сушу
И медленных туч неподвижен полет,
Где мы открываем озябшую душу —
На выдох и вдох, на закат и восход,
Где тень гаража над ночною дорогой,
Движение ветра навстречу лицу
И вон уходящей привычной тревогой,
Меж пальцами кожей, прижатой к кольцу.
И птицей, летающей вольно и властно
В закрытой надежно, открывшейся мгле.
И каждому врозь одинаково ясно,
Что не было нас никогда на земле.
Поживи безрассудно со мной,
Полмгновения, можно короче,
Этой жизнью иначе иной,
Этой ночью иначее ночи.
Позабудь свои правила сна,
Все резоны и даже законы,
По которым приходит весна,
Зеленя и тела о газоны.
И, закрыв свой стреноженный ум,
Протяни, как когда-то однажды,
Сквозь мирской равнобедренный шум
Звуки недорастраченной жажды.
Как дом не существует за окном,
Так тяга безрассудна к диалогу.
Не лучше ли раскрыть тяжелый том
И обратиться прямо к эпилогу,
Чем в оный раз надеяться на то,
Что тяга эта впрямь необходима, —
Не лучше ли купить себе пальто
И два билета до ночного Рима.
Не лучше ли отправиться на бал —
Куда-нибудь в окрестности Калуги,
Где кружится и стонет краснотал
Под музыку умеренную вьюги.
Не лучше ли, отребье полюбя,
Добыть в толкучке толику азарта —
На этот раз не только для себя,
А в целом для теории соцарта.
И дальше, некой жаждой заболев,
Берлогу завалив еловой веткой,
Впрыгнýть во время скоком, аки лев,
С безмолвия покончив пятилеткой.
Но это, друг, скучнее многих скук.
Но это, друг, погибели подобно.
Я лучше вновь, не расплетая рук,
Любить останусь долго и подробно.
А вот когда оставит душу хмель
Из чаши Пана, ветреного бога,
Я застелю лишь нежностью постель
И опущусь ужо до диалога.
Накануне ночь бессонна,
Коротка и не темна.
Невеселая мадонна
Напевает у окна.
Горловые звуки льются
И курлычут надо мной.
Чашка чая в центре блюдца
С еле видимой луной.
Мысли движутся по кругу,
Руки в кольцах горячи.
Мы доверили друг другу
К Царству Божьему ключи.
Три ступеньки вниз, и дале —
Рук тепло. Короткий миг.
И на выбитой медали
В темноте нездешний лик.
И еще помимо света
Этой тьмы наискосок —
Наше медленное лето
Между пальцами в песок.
И потом, спустя немного —
Над землей недолгий час,
Где летает отзвук Бога,
Не дошедшего до нас.
Кожа теплая дивана,
Чая темная струя,
Запотевших два стакана,
Справа – ты, и слева – я.
И еще немного сбоку —
Мир, затерянный давно,
Еле видимое оку
Полутемное окно.
Еле видимая глазу
Тень с подносом на весу.
Хочешь, ветреную фразу
Я тебе произнесу?
Я скажу, осмелясь еле,
Не сейчас – потом, весной:
– Неужели в самом деле
Вы помолвлены со мной?
И прожив года, наверно,
Вспомним ясно и светло —
Чай. Диван. Подвал. Таверна.
Запотевшее стекло.
Елене Сарни
Седьмая ночь. Поземка еле.
Пусты проспекты и немы.
Здоровый дух в нездешнем теле,
Где мы еще уже не мы,
Где гололед натерт до блеска
И шум машин далек и мал,
Где сон скрывает занавеска
Меж полотном старинных шпал,
Где спит трамвай, унизив дуги,
И спит «рено» на свой манер,
И в нем – две пьяные подруги,
Меж ними – милиционер.
А нам идти еще далёко,
Увы, неведомо куда.
Зачем недрéманное око
Уткнулось взглядом в провода,
Где среди пятен интернета
Бессонниц улицы густы
И нежно падает комета
Сквозь разведенные мосты?
Вот и кончилась слякоть в округе,
И асфальт почернел от тепла,
Отгуляли вчерашние вьюги,
Оттемнела вчерашняя мгла.
И луной осиянные дали
Так торопятся в никуда,
Как когда-то в нездешнем начале
Торопили меня провода,
Разрезая зарю на зарницы,
Не один совершая виток
Вдоль Земли, что проворно крутится
Снова с запада на восток.
И легко мне, и весело даже
Повторить этот путь не спеша,
Где белее становится сажи
Незнакомая прежде душа,
Где звенит не монетой в кармане
И не птицей в самóй вышине —
Медным коло-колом в тумане
То, что в Генуе слышалось мне.
Теплая Генуя, плещет волна.
Розы, лотки и машин вереница.
Вид из двустворчатого окна —
Возле фонтана веселые лица.
Что я забыл в этом тусклом раю,
Розовом черезвычайно?
Я на два голоса вновь не спою,
Сделать стремясь это нощно и тайно.
Лебедь, застыв, неподвижен вовне.
Облако в небе, похоже, застыло.
Рифма природы случилась во мне,
Сердце забилось и позже заныло.
Господи Боже, у белой стены
Я на коленях молюсь тебе долго —
Слишком во мне накопилось вины,
Слишком убавилось веры и долга.
Дом мой далек, и беспамятен ум,
Руки сильны, тяжелы и напрасны.
Слушает слух фонетический шум,
С коим душа и язык не согласны.
Город чужой и чужая страна,
Время чужое, и все же, и все же —
Дай мне допить мою чашу до дна
Из милосердия, Боже.
Пошуми, говоришь ты глухо,
Волчью шерсть подымая в рост,
Ты исчадие сна и слуха,
Вдруг прервавшая трезвый пост.
Желтой кровью налиты зенки,
Красных век отверсты черты,
Это предки твои, эвенки,
Довели нас до той черты.
Как грехи наши нынче тяжки,
Плащ скользит, торопясь с плеча.
Две уродины, две дворняжки,
Две дыры, поперек – свеча.
И над всем этим тонко-тонко
Светлый серп сквозь весенний дым,
И оранжевая трехтонка
Из миров, где я был молодым.
Ветви ничего, и сны оттуда
Изначально переплетены,
Два больших качаются верблюда
Вдоль земли по краешку вины.
Бережны, слепы, велеречивы,
Обжигая ноги о песок,
Слушают надежды переливы —
Бездны неглубокой голосок.
Вот они снимают с мехом кожу,
Вот ложатся медленнее сна.
Душу, на томление похожу,
Поднимают бережно со дна.
Словно соли, нализавшись смерти
И припав к придуманной воде,
Чертят на линованном конверте
Букву «мы» и следом букву «где».
Наливаясь яростью незримо,
Поднимают неподвижный глаз —
На недоразвалины не Рима,
Дородивших незаметно нас.
Принеси мне куклу из чулана,
Поиграть на время одолжи,
А потом, не поздно или рано,
Ты ее обратно положи.
Я сошью ей модную одежу,
Выглажу и фартук, и жабо.
Жизнь свою нескладную умножу,
Что без куклы было бы слабо.
Посажу ея на подоконник,
Брови незаметно подведу.
Будет у голубушки поклонник
У прохожих нижних на виду.
Что тебе до пожилой игрушки,
Как проводит чучело часы?
Ведь остались у твоей подружки
Локоны от срезанной косы.
Выпьем за развалины чулана,
И, устав от медленной игры,
Мы уснем на краешке дивана
До другой, доверчивой, поры.
Беседа затянулась дотемна,
И жаба незаметно задремала.
Она жила, естественно, одна,
Любила также сон и одеяло.
И я ей неудобен был вполне,
Незваный гость, напрасно гладил холку,
Но мы успели выпить при луне,
Побормотать в охотку втихомолку.
Потом я положил ее в карман
И позабыл про это ненароком.
Москва была тепла, кругом лежал туман,
И от столбов потряхивало током.
И мы гуляли долго, до утра,
Пока звезда не вылезла из пены,
Пока не улеглись в лугах ветра,
Спокойно ожидая перемены.
Я бормотал о дорогом жилье,
Она сопела бережно и сладко,
Кругом плыла на миллионы лье
Весенняя земная лихорадка.
И думал Бог о выгоде тепла,
Надежно помогавшей нашим планам,
И о планетке, вымерзшей дотла,
Украшенной булавочным вулканом.
Евгению Витковскому
Дорожденье не неотвратимо,
Цвет и плод единством не больны,
Только умирание не мнимо
Без вины и даже без войны.
Вот крыльцо осевшего барака,
Вот листва вчерашнего числа,
Вот мосты железные Монако —
Знаки и труда, и ремесла.
Сяду с нищим возле тротуара
И увижу белое пальто,
Ленту цвета позднего муара
И лица сплошное решето.
Дыры глаз, нацеленные в душу,
Звуки флейты, медленнее сна,
Где качает беззаботно сушу
Чья-то ненапрасная весна.
Малому сегодня сердце радо —
Теплый шарф, непраздные слова,
Гроздь полуживого винограда,
Выжившая вовремя едва.
А толпа тягуча и нарядна,
Лица равнодушны и строги,
Впереди босая Ариадна
Ставит в неизбежное шаги.
Нищий мил и сбором озабочен,
День прекрасен, свеж и отстранен,
Тот, что был мне веком напророчен —
Не моим, но нынешних времен.
Нам сидеть до позднего заката
И смотреть, дыханье затаив,
Повторяя звуки виновато
На чужой бессмысленный мотив.
Ворона ладила гнездо
И, ладя, громко напевала
Две ноты «си», полноты «до»
И трижды – ноту «одеяло».
И завершив свои дела,
Мне предложила в воскресенье,
В начале самого тепла,
Конечно, ноту вознесенья.
Мне предложила покружить,
Покаркать вволю и от пуза,
Мне предложила ноту «жить»
В пределах фрачного союза.
А я, увы, уже давно
Был нанят сторожем при складе,
И посему… – Но нота «но»
Меня б оставила в накладе.
И полетав с немногим час,
Присели на излете крыши.
Светило солнце выше нас,
И тьма светила – солнца выше.
Вокруг видны безмолвия черты:
Молчит вода, и дерево безгласно,
И сон, гонец нездешней немоты,
Мне объясняет истину напрасно.
И сам я нем не менее травы,
Но и не боле возгласа и слова,
Людских судеб, людской молвы,
Венца творенья – мони иванова.
Перебирая пригоршни словес,
Рот разодрав от уха и до уха,
Живу без понимания и без
И собственного голоса, и слуха..
И рядом – рой полубезумных рыб,
С отъятой головой, на блюде дышит,
И, несмотря на музыкальный хрип,
Никто и никого уже не слышит.
Все глуше мир, все музыка слышней,
Все безразличней поиски ответа
На склоне лет, на склоне дней,
На склоне гор, на склоне света.
Горлинка воркует глубоко в горах,
И ручей не речью – реченькой поет,
Мне твое наскучило муромское «ах»,
Угрское упрямство от «до» и до «от».
Лодка с легким паром движется на юг,
На остроге рыба корчится в огне.
Что с того, что кончилось время поздних вьюг, —
Лето заполярное не спешит ко мне.
Прячется, бедняга, в каше ледяной,
Не расслышать голоса, не узнать лица.
Посиди, пожалуйста, полсудьбы со мной
На краю окраины, на краю крыльца.
Прохрипи, пожалуйста, полсловца в ответ,
Речью завороженной к выдоху прильни,
Хитрое чухонское колдовское «нет»
Из пистоля ветхого невзначай пальни.
И потом, не меряя мерою мирской,
Раствори, как облако, как вода в воде,
В той воде немереной, в той воде морской,
В том, не знаю, около, но твоем – нигде.
Шарики ртути на желтом полу,
Синяя с белым коробка,
Красную нитку в кривую иглу
Вдела ты робко.
Медленно месяц за тучей погас
Вербного цвета,
Мир этот поздний совсем не про нас
В шорохе лета.
Сколки печали на влажном ковре,
Руки и стены,
В самой прекрасной, прощальной поре
Все перемены.
Ветер устало вздохнул за окном,
Кровь остывает под кожей,
Все наблюдавший задумчивый гном
Дремлет в прихожей.
Отсвет волос на зеркальном плече
В вероподобной пустыне.
Голос чуть слышно извне изрече:
– Мой господине…
Евгению Витковскому
В мире рыб полуночное пенье,
Хороводы, медленная тьма,
Бедное негромкое мгновенье,
Майская короткая зима.
Уплывают в теплые закуты
Свиньи, плавниками шевеля,
Забывая долгие минуты
В трюме молодого корабля.
Снова опускаются туманы,
Шепчутся ворона и треска,
На траву осыпались романы,
Буквы и страницы из песка.
Водоросли взрослые застыли,
Вымытые Богом поутру,
Спины в пене, еле руки в мыле,
И фонарь немытый на ветру.
Алле Латыниной
Серый цвет второпях на рябине,
Серый цвет на лазоревом дне,
И еще – на другой половине —
Пол-окна, обращенных ко мне.
Полуслышно и полупонятно,
Полубережно, полусветло
Возвращается нежность обратно
Сквозь немытое, в пятнах, стекло.
Шелестит, шебуршит и витает,
За спиной невозможно молчит,
То взойдет, то вспорхнет, то растает,
То простонет, а то прокричит.
И кому, до кого и откуда
Этот свет невесомее тьмы,
Неизбежный давно, как простуда,
Из деревни по имени – Мы.
Пчелы шумели громко,
Слова похоже шумели,
Неба закатного кромка
Светилась сквозь ветви ели.
Чай остывал сладкий,
Ложка лежала рядом,
Шмель, на сладкое падкий,
Кружился над белым садом.
Птицы летали близко,
Ветры дышали в спину,
И солнце кланялось низко
В ноги Отцу и Сыну.
Иуда молился где-то,
Ростом в зеленую милю,
В тридцать четвертое лето
Уже по новому стилю.
Ежедневник прошедшей любви
На мелованной, в клетку, бумаге,
Сонный взгляд пожилой визави
Как отрывок из саги.
Полбокала сухого вина,
И парижские грязные стены,
И откинутая спина
Возле призрачной Сены.
От избытка неведомых сил
Я убогого текста во власти,
Где никто никого не любил
В ожидании страсти.
Где лениво сочилась душа
Обывателя в лоно курсистки,
Загогулины карандаша
Полупошлы и низки.
Оказалось, что наши слова,
Наши жесты, забытые вздохи —
Только мусор машин естества,
Пыль ушедшей эпохи.
В мусоре кварты страстей
Мелочь моих ожиданий,
Пара коротких свиданий
В сонме незваных гостей.
Цвет не меняется глаз,
И аппетит не приходит,
Снова луна пароходит
В небе в полуночный час.
Кто этот желтый стрелок,
Сбивший ворону в полете,
Черную, в перьях и плоти,
Прямо навылет в висок?
Чей это суп на столе,
Дымный, походный, горячий,
Суп из вороны незрячей,
Сваренный в черном котле?
Чьи это в перьях слова,
В плаче, и просьбе, и дыме,
Произнесенные в Риме
Шепотом, слышным едва?
Словно закончен сюжет,
Словно истрачена вера,
Сумрачно лыбится Гера,
Слушая лепет в ответ.
Кубок клоня на восток,
Треснувший, синий, прозрачный,
С влагою неоднозначной,
Падающей в песок.
Семнадцать градусов в июле,
И полдороги в никуда,
И трещина в шершавом стуле,
И остальная лабуда.
Ночник арбатского приказа,
Дом двухэтажный во дворе,
И незаконченная фраза
В давно законченной игре.
Терраса пыточного дома,
Зеленый цвет сквозь белизну,
Околыш черный эконома,
Являющего новизну —
Иного времени масштабЫ,
Иного подвига черты, —
И во дворе в сарае баба
Стирает грязные порты.
И мне, рожденному не к месту
И не ко времени к тому ж,
Господь послал вдову-невесту
Еще из не рожденных душ.
И оба мы в усталом раже
Беседуем на ложе пня.
И рядом дрыхнет пес на страже,
На лапы голову склоня.
Этот ветер не стал еще светом,
Это море не стало птенцом,
Только мы не узнаем об этом,
Разминувшись с не нашим творцом.
Солнце тлеет, но тлеет высоко,
Сад цветет, но заброшенный сад,
И от век отстраненное око
Снова зелено, как виноград.
Вот дитя выползает из стойла,
Краснощек, величав и глазаст,
И хлебает молочное пойло,
И читает Экклезиаст.
И, с колен подымаясь неспешно
И перстом осеняя восток,
Смотрит весело, прямо и грешно,
Прямо в рот опуская манок.
И, ловя соловьиное эхо,
Как кукушка, талдычит в ответ
Две мелодии – боли и смеха,
В коих разницы в истине нет.
Как я слушаю эти рулады,
Как их слушаем, бедные, мы
Посреди пролетарской Гренады
Поздней ночью в зените зимы.
И. Беляковой
Во саду ли, в огороде бузина гнездо качала,
Одинокая принцесса наблюдала за птенцом,
Уходила, засыпала, начинала все сначала,
С бесконечно равнодушным, замечательным лицом.
Так прошли века, и годы, и минуты, и недели,
Промелькнули незаметно и исчезли в никогда,
Так же точно птицы пели, и свистели свиристели,
И текла себе беззвучно одинокая вода.
Я, конечно, был не против принимать участье в деле
Наблюдения над бездной бесконечных перемен,
Но участники процесса этой цели не имели,
Поелику не поднялся я в развитии с колен.
Новодевичее поле возле кладбища кружило,
Соловьева прах развеян был в окрестности стены,
И в ладони помещалось то, что медленнее жило,
Чем обычное пространство, ниже солнца и луны.
Шел монах с улыбкой мимо, мать-игуменья спешила
По своим заботам важным, как столетие назад,
Где когда-то, может статься, будут плавать в дебрях ила —
Может, рыбы, может, люди, может, целый зоосад.
Ждя планету никакую,
На чужой земле кукую
И прошу кого попало
Помолчать со мной устало.
Я тебя не понимаю
И поэтому теряю.
Ты меня не понимаешь,
Не поэтому теряешь.
И живем с утра до ночи,
Словно Вий сомкнувши очи,
На краю нездешней суши,
Занавесив плотно уши.
Эта явь других не хуже,
И достойнее к тому же,
Многих вспышек и страстей
Наших избранных гостей.
Может быть. А может нет.
Сорок зим и сорок лет.
День за днем, за часом час.
Бог простит, надеюсь, нас.
Небесов неловкий клекот,
Гарь собачья на песке,
Продолжающийся опыт
Нотой тусклою в виске.
Грань иная – мимо грани,
И герань в окне – одна,
Нежный лепет в Ленкорани
Возле призрачного дна.
Что тебе начало века,
Что с того, что звук возник?
На коне сидит калека,
Ратной службы отказник.
И еще, напротив света,
Позади густых теней,
Робко падает комета
Среди вымерших камней.
Вот она все ближе, ближе,
Вот уж хвост как парус ал…
Их полет следят в Париже
Медь и вежливый металл.
Жизнь не имеет тупиков,
Как фирма «Круг и K°»,
И даже смерть в конце веков
Обводится легко.
И посему, когда закон
Нарушен мной и им,
Мне только ветер с трех сторон
Один необходим.
Мне только ветер под и над,
Закованный в гранит,
Потребен нынче в променад,
Что жизнь мою хранит.
И я распахнуто дышу,
Помимо цепких рук,
Система СИ, в системе шу,
В один и тот же звук.
И вот уже мерцает слог
Сквозь смуту тупика —
Прекрасен, как и прежний, долг,
Как тот, что нем пока.
Парус прям, и изогнута ось,
На которой крути#тся Земля,
На которой торчать довелось
По причине души и рубля.
И в другом изначальном витке,
Что на смену ушедшему дан,
Я беседую накоротке
С не женой из неведомых стран.
Я не кости мечу по столу
И не в картах ответы ищу,
Я впотьмах в полукруглом углу
Собираю из шума пращу.
А она, наблюдая за мной
И плетя непонятный узор,
С поволокой своей неземной
Не отводит рассеянный взор.
И, спеша из рассвета в рассвет,
Дни сжимают отмеренный путь,
Словно смерти воистину нет
И не в ней помещается суть.
Мы совпали, как воздух в полете
С никуда не летящей стрелой,
Как две тени в одном повороте,
Поглощенных нечаянно мглой,
И в нездешнем и общем начале,
И в назначенной кем-то судьбе,
В бедной радости с долей печали,
С общим именем во гробе.
И теперь не спеша, сумасбродно,
Не деля на вчера и всегда,
Мы живем себе слишком свободно,
Как в любом океане вода,
Не пугаясь ни воли, ни страха,
Ни потери вины и ума,
До мелодии медного Баха
От мелодии праздной Дюма.
Коснуться невзначай пространства возле слуха,
Чуть выше головы, внезапнее лица,
И, не переводя ни помысла, ни духа,
Сойти не на простор, но все-таки с крыльца.
И, не не торопя, внезапно наклониться,
Спросить, о чем уже не спрошено давно,
И медленно смотреть, как неподвижна птица,
А небо все летит и падает в окно.
И как звенит в тени прозрачно паутина,
Как ветер в волосах шуршит и не поет,
Как кисти Лакруа волнуется картина
И будущий закат горит наоборот.
Хрустальный башмачок налез наполовину,
А пряжку расстегнуть, намылить – и уже
Пора на божий свет отцу, а следом – сыну
Возникнуть и мелькнуть на пятом этаже.
Скрипит себе ольха поверх березы вздоха,
Собак далекий лай, нездешний перебрёх…
– Ну, как тебе, мой друг, текущая эпоха?..
– Да так себе, мой друг, не гаже всех эпох.
Коровий след напротив тишины,
Архивный шкап с оторванной петлей,
И две вороны молча над землей
Понуро возвращаются с войны.
И где-то там, меж облаком, блестя,
Другие птицы медленно кружат,
Отцвел бесплодно невишневый сад,
Кому-то за содеянное мстя.
Родной язык и мертвый не звучат,
Но письменно вполне еще смешны,
И тоже возвращаются с войны
В отцветший внове невишневый сад,
Где кормим мы линяющих собак,
Где собираем вялые грибы —
Счастливых дней нездешние рабы,
Вступившие с непрошлым в тайный брак.
Этот бережный звон невзначай,
Эта хрупкая фраза на дне —
И фарфор, обнимающий чай,
И прощание с присказкой «не».
Некасание легких волос,
Неоткрытие веры и сна,
Непоездка автобусом в Плес
У открытого настежь окна.
И нежизнь не у моря потом,
Черногорский поблекший пейзаж,
Безэтажный и призрачный дом
Ненадолго и даже не наш.
Тонут губы в нетерпком вине,
И слабеет над морем рассвет.
Постепенно из присказки «не»
Попадая в историю «нет».
Принцесса, туфелька, восторг
И обожание некстати,
И что с того, что я – Восток,
А Вы – мой Север по палате.
И что с того, что мы нежны
И очень бережны напрасно,
В Вас все четыре не жены
Не уживаются прекрасно.
Мы ходим по полю во тьме,
Несложной жизни пилигримы,
И дважды два в моем уме
В Ваш смысл непе– и ре-водимы.
И на краю большой зимы,
Ходя оставшихся полкруга,
Как счастливы, помилуй, мы
В непонимании друг друга.
Евгению Ревзину
Имея – не иметь, а потеряв – обресть,
Не двигаясь – лететь, меняясь – быть собой,
На самом деле мы осуществляем месть
Всему, что нам несет слияние с судьбой.
На самом деле мы поток тревожных снов
Преображаем в тех, кому мы не нужны,
На самом деле мы, не разбирая слов,
Навзрыд и невпопад к небывшему нежны.
Спадает пелена с идущих наугад,
Торопится рассвет в пространство изнемочь.
Смотри, как недвижим мгновенье водопад
И как светлее дня единственная ночь,
Как болен юный клен, растущий под окном,
Как болен старый дуб, листвою трепеща,
И как минувший век, великий эконом,
Бежит за нашим днем без крыльев и плаща.
Чужие дни, чужие речи,
Чужая музыка вокруг,
И шаль тяжелую на плечи
Накинул вежливо не друг —
Тебе, не сотворенной вживе,
Тебе, влекомой не вовне,
И в том, взволнованном, заливе
При расколовшейся луне,
И там – на перемене века,
На гребне жала и жары,
На пике недочеловека
Из неоконченной игры,
Тебе, любившей непотребно
Не жизнь, а кожу и восход,
Что растворяются целебно
Среди незамутненных вод.
Играй и двигайся упорно,
Под эту музыку скользя,
Твое движенье небесспорно,
Но лучше двигаться нельзя.
А я легко и отстраненно,
Заметив равнодушный жест,
К вам отнесусь неблагосклонно
Под блáговест и благовéст.
Парафраз из незнакомых фраз,
Из дождя надежды и письма,
Пусть не каждый, но хотя бы раз
Нас утешит в горести весьма.
Бедный мир, до одури не мой,
Белый свет, до отсвета не наш,
Приведет нас к вечеру домой
Или в полночь – в лубяной шалаш,
Где смола на высохших ветвях,
Где роса на выцветшей земле,
Белый соус в черных трюфелях
И огонь, невидимый в золе.
Вместо солнца – свечи и фонарь,
Вместо моря – галька, и песок,
И нездешней сущности букварь,
Что читает бездны голосок.
Я уйду за эхом этих даль,
За усталым отсветом дорог,
Где дамасской гильотины сталь
Преподаст очередной урок.
Бродит кошка по дивану,
На метле летает муха,
И пришла себе к Ивану
Очень древняя старуха.
Принесла в заплатах карты,
Полколоды, воска свечку,
Пива теплого три кварты
И легла к нему на печку.
На полатях пели куры,
Плыл закат в окне багрово,
И, пустившись в шуры-муры,
Изрекла Ивану слово:
– День, Иван, – большое дело,
Ночь, Иван, еще дороже. —
И ласкалась неумело —
Помоги ей в этом, Боже.
Век прошел, потом неделя,
А потом и вовсе кроха,
И еще допер Емеля,
Что кончается эпоха,
Где кому-то в самом деле
Было все-таки неплохо.
Выпил пива, вытер губы,
Бросил веник у порога.
А кругом трубили трубы,
Славя тление и Бога.
Дни мелькают, как недели,
А недели – как года.
Неужели в самом деле
Нас не будет никогда?
Ни коровы, ни собаки,
Ни излучины реки,
Ни развалины Итаки,
Всем прогнозам вопреки,
И, конечно же, в итоге
Ни Сатурна, ни свинца,
И в одном нездешнем Боге
Мы сольемся в пол-лица,
Встанем молча на пороге,
Без дыханья и лица.
И, приветствуя ушедших
Раньше нас в иной предел,
Встретим толпы сумасшедших
Без регалий и без тел.
И, хромая духом бедным,
Поплетемся в никуда
Под зеленым солнцем медным,
Досветившим без следа.
Какая музыка пасла свои стада,
Какой пастух гудел себе на дýде,
Что камня сквозь забулькала вода,
Глаза открыла голова на блюде.
Я вышел вон, гонимый никуда,
И брюки клокотали от нагрузки,
Дымились в полуметре провода
От зеркала разбившейся Тунгуски.
И чукча, брат, сквозь чум издалека
Мой праздный ум, не торопя, тревожил.
Как будто прожил я не долгие века,
А только то, что прожил и не прожил.
Процесс омоложения условен
И все-таки, увы, необходим.
Для этого потребен белый овен,
Огонь, шампур, и музыка, и дым,
Кастальский ключ и непреложность быта,
Прилива шум и пальмы у окна,
Кусок щепы от прошлого корыта,
К которому привязана волна,
И все твои несбывшиеся встречи
На тыщу лет, не прожитых вперед,
И с блюда – взгляд уснувшего Предтечи,
А может быть, Иродиады рот.
Акрополь, Дельфы и Колхида,
Еще потребна, Господи спаси,
С гвоздем во лбу – кариатида
Из влажной липы посреди Руси.
Пора, мой друг, засесть за переделку
Убогой жизни, призрачной давно,
И, взглядом беглым провожая белку,
Открыть в мороз туманное окно.
И губы шевеля тяжелым слогом,
И ум таща сквозь медленные дни,
Забыться не в молитве перед Богом
И не в природе, данной искони,
А в этом вот навозе и помете
Соседской суки, тощей и хромой,
Летящем низко трубном самолете
И даже в жизни тлеющей самой,
В остатках снов, в обмылках боли,
В железной выси ночи ледяной
И даже в той незавершенной роли
Царя царей в избушке лубяной,
В сибирской язве братского сената,
Стеклянной выси рухнувших гордынь
И в прорези зеленой автомата,
Восшедшего, как кара, из пустынь,