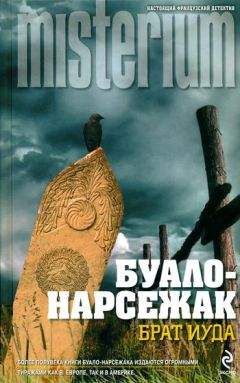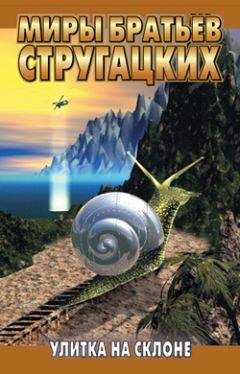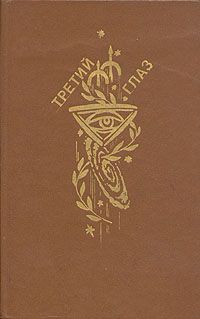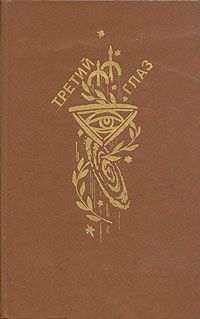Леонид Латынин - Праздный дневник
Леонид Александрович Латынин
Праздный дневник
На сквозняке бытия
Про стихи поэта – мучительно писать рассудительной прозой. Они ж сами за себя говорят, да и больше, чем сказано, так что в стихах «один пишем, а в уме» – сколько? – не два, а бесконечность. И потому взял бы да цитировал: что пришлось по душе и уму, в резонанс тебе, что восхитило, а и что остановило задуматься… Но и интересно умом разобраться, отдать себе отчет в том: что понял, на какие рубежи вышел твой собрат по труду в Слове – «духовный труженик, влача свою веригу» – как странник по Бытию (в стихотворении Пушкина)? Тем более что стихи Латынина – это поэзия думы: в ней образ интеллектуален, есть «мысле-образ».
«На склоне света…» – так поименовано собрание стихов. Как понимать? Может так: как на склоне горы бытия и познания, куда восходил всю жизнь? Вспоминается тютчевское:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней… —
но и мыслим проникновеннее. Вроде бы достигли возраста – стадии мудреца – «аксакала», кому уж положено быть постигшим смыслы Жизни и к кому «юноше обдумывающему житье» (Маяковский) обращаться за ответами… Ан, нет: всё разверзто в новой вопросительности. Вот четверостишие, что задает тон и музыку:
Мы были вместе до земли и воли,
До этих дней, текущих никуда,
В еще не обозначенном глаголе,
Бесформенном, как воздух и вода.
Да это ж – ситуация Первого дня Творения, когда «земля была безвидна и пуста», да и ранее: когда и то «Слово», что «было в начале», еще не обозначилось, т. е. когда в Премудрости все зачиналось. Но тут же слух наш ловит сочетания не из Бытия, а из Истории: «Земля и Воля» – название движения народовольцев. Но, поставленное в ситуацию кануна Творения, до сотворения «земли», оно расшифровываемо – и как момент до сотворения человека, с приданной ему «свободой воли».
В этом «срезе ткани» нащупывается уже особая стилистика Латынина: она и вперед, и назад стягивает «начала и концы», а в общем – НА СКВОЗНЯКЕ БЫТИЯ – тут располагается его существо-вание и оптика: продуваем со всех ветров и стран и склонов света. Недаром лейтмотивное слово у него – «сквозь»:
Сквозь пространства, дома и даты,
Сквозь туманы бесполых тел,
…
Все бредем без любви и Бога,
Не вперед бредем, не назад…
На сквозняке розы ветров Бытия – место неуютное для тела, но для души поэта – славное: трепетать бабочкой, стрекозой – место обзорное и равновесное по – своему. И вот выхожу на удивляющее стечение в голосе Латынина нервной вопросительности, открытости и нерешенности вечных вопросов Духа – и покоя мудрой ровности. Позиция Радования и Всеприемлющести – при всей чуткости к катаклизмам существования человечка – «твари дрожащей». Этот секрет сам автор обнажает в стихотворении книги, которую поэт так аттестует: «Эта книга диалога, суеты и маяты».
И середь вот этой свалки, этой судороги, боли, дележа и куража,
Смуты, лепета и крика, мировой державы бранной.
Я люблю, дышу, страдаю, это жизнью бестолковой бесконечно дорожа,
Этой жизнью безымянной, жалкой, грешной, краткой, странной,
Различимой на полвзгляда, но до одури желанной.
В сантиметре от акулы, дога, гарпии, удава, на полвзмаха от ножа.
Браво, Латынин! С таким «кредо»– можно жить! А это уловление события «на полвзмаха от ножа», наканунное, – характерно, приметно для мировидения поэта:
Еще я различаю невзначай
В минувших днях, коротких, как века, —
Не скошенный косою иван-чай
И птицу за мгновенье до силка…
Но раз на всемирном сквозняке вибрирует дух, то во все стороны и отовсюду естественно налетают ассоциации, брачуются эпохи, (в) идеи и слова из разных опер и сфер:
Стоять достало безутешно мне
Над прахом бедуина и катулла.
(Отчего поэта Катулла из собственного имени переводит (понижает?) в нарицательное, – об этом ниже.) А стихотворение это начинается диалогом с Блоком:
Фонарь разбит, аптека опустела
На улице туман и та луна…
Подхвачен мотив Блока: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека», – как у композитора вариации там, на тему Диабелли.
Постулат художественного мышления: «всё во всём – присутствует, можно узреть, сцепить, – и в поэзии Латынина элегантные брачевания (в) идей отдаленных открывают возможные смежности явлений: «…визги нежных сатурналий…»
Любит автор такие оксюморонные (полярные) сочетания: «И ангел мой с ружьем наперевес», «Наконец-то будет детство, что мне нынче по плечу…» (а ведь верно: мы за жизнь доразвиваемся до мудрости детской, «дорождаемся» – по любимой идее – термину Латынина) «То единственное средство/ Жить вчера, как я хочу»; «…Чтобы подняться на любое дно»; «И знать, что мы отсюда до всегда», совокупив пространство и время, как Бахтин, в «хронотоп».
Мир полон превращений, и всякое утверждение поэт сам весело снимает: «а, может, и совсем наоборот». Это тоже излюбленный вектор – «наоборот»: «И меж эпох протянутая нить, / Как света луч во тьме наоборот…» или «как будто здесь траяновы валы / Легли своей дугой наоборот».
Иногда такое слышится как автоматический прием, фирменный «брэнд» мастера… И еще: как подсурдинивает возможную громогласность, расслышиваю в понижении даже букв собственных имен:
Был в женеве и париже
Инородцем, как в твери.
Тут даже идет вопреки грамматике – и это со смыслом: слышу в сем некий кенозис русского сознания – сомирения – наоборот к германскому стилю сверхчеловечества, отчего и все имена существительные там восходят, в гордынном персонализме, как шпили кирх вверх и пишутся с большой буквы.
Удивила меня также эмоциональная приглушенность: в рельефе строк нет знаков восклицания, вопрошения, многоточий, но ровность – как русских равнин, где лишь холмы запятых, пути-дороги тире, да долы точек. Но это не вялость, и, если прислушаться, взволнованность есть, но воля напряженна – упруга в самообуздании, и возможные восклицания и вопрошания переданы внутри и в синтаксисе повествовательных предложений. Так редкостны ныне целомудрие и стыдливость и благородство в выражении чувств – как вот в таком страстном тексте:
Миска каши да чашка чаю,
Лодка красная на берегу,
Я скучаю по тебе, я скучаю,
наскучаться никак не могу…
…Мы по паспорту все медведи,
Ну а люди – мельком, на миг.
Я тебя в свою шерсть зарою,
Твои руки, плечи и грудь.
И упрячу в слова, как в Трою,
Чтоб открыли когда-нибудь.
Медведь – и личный тотем Латынина, как и всего народа русского, кто родом из лесных мест Севера Руси. И себя как медведем вочеловеченным ощущает он (крупен и шерстян) и в прозе. В романе «Спящий во время жатвы» медведь-человек у него персонаж, и в стихах много «берлог». Так вот «кентавричен» лирический герой стихов Латынина: то крылышками трепещет на сквозняке ветров, то тяжко – дремучим лесовиком прорастает из толщи матери – сырой земли, увесист и остойчив. И – надежен. Крепкий семьянин. Среди хаоса разлетных семей, что являет пейзаж эпохи, его семья – дивный микрокосмос, окормляющий и животворящий творческие персоналии и жены, со-упруги Аллы – литературного критика, и дщери Юлии – писателя и публициста, не говоря о нем самом, кто тут остов и устой:
Я доиграл единственную ролю,
Роль берега для бешеной воды.
Именно: его женщины – неистовые валькирии, пассионарии, неистощимые в творчестве. Он – им удерж, но и они ему со-держители на сквозняке бытия: не дают распылиться – улетучиться и образуют общую им твердь. «Рождают дети матерей»… ну и отцов.
И в современной «яческой» лирике атомарных индивидов у Латынина часто голосят «мы» и «мы с тобой» – как субъект самовыражения, и это близит его лирику – к мелике – хоровой поэзии, что и в античности, а и в пушкинской традиции стихов «для вас, о други!..»
На много еще интересных соображений наводит книга стихов Леонида Латынина. Со-ображайте и со-беседуйте сами, читатель.
Георгий Гачев18–21 января 2006,Переделкино«Туземный словарь»
Ты подвел меня к самому краю
И позволил вернуться назад,
И опять я на дудке играю
Целый век напролет невпопад,
Заблуждаясь, ликуя и плача,
Торопясь, мельтеша и любя.
Ничего неземного не знача
В этой жизни земной для тебя.
Понемногу, то криво, то косо,
Изначально назад, а не вслед,
Оттолкнувшись от пристани Плеса,
Я отчалил в туман и рассвет.
Попугай в нарисованной клетке.
И арбуз астраханский в руке.
И прощальная птица на ветке
С колокольней земной вдалеке.
То ли Дон, то ли Терека воды,
То ли Темзы зеленой огни, —
Все смололи железные годы,
Словно не были вовсе они.
Полумузыки скудные ноты.
Или труб золоченая медь.
Или доля в разгаре работы
Между делом покорно неметь.
Когда б вы знали, из какого ада
Приходят звуки в мертвые слова,
Как набирает воздух серенада,
Вдохнув живую музыку едва.
И в тех словах и сулема, и сера,
И запах мяса, жженого в костре,
И та, иная, наизнанку, вера,
Что состоит из точек и тире.
В которых – стон, и возгласы, и крики,
И гомон слуг священного огня,
И отсвет глаз подземного владыки,
Что смотрит в пекло, голову клоня.
И что с того, что мы в подлунном мире
Придем в восторг от поднебесных нот, —
Их в первый раз сыграли не на лире,
А олово вливая в отчий рот.
А. Парщикову
В окне – луна, а под окном – собака,
Вверху – звезда, а под звездой – сосна,
Скажи, какой из знаков зодиака
Мне объяснит нерукотворность сна.
Я в мире том старею и немею,
Там жизнь моя проходит на лету,
А в этой жизни жить я не умею, —
Так меркнет свет лампады на свету.
И там, как здесь, отражены потери
В давно разбитом зеркале удач.
И каждому неверию по вере
Отмерил смех, преображенный в плач.
И длится день, печален и размерен,
Размыв границы здешнего лица…
Я – в двух мирах, и дважды не уверен,
Что сон и явь реальны до конца.
Никто не вернулся назад.
Никто не воскрес из ушедших.
Хотя не таинственен ад
Для тронутых и сумасшедших.
И, розы сажая в раю,
Не знают ушедшие ране,
Как мы в невеселом краю
Бредем, спотыкаясь в тумане.
Любя, ненавидя, скорбя,
Растерянно и одиноко,
На мелочи жизни дробя
До самого крайнего срока.
А музыка плачет вокруг
До визга, до крика, до стона…
О, если б не лебеди вдруг
Да утки, летящие с Дона…
В словах моих так мало гласных,
А несогласных – пруд пруди,
Как лет тревожных и напрасных,
Что стали прошлым впереди.
Столы железные и стулья
В саду торжественно пусты,
И шляпы кожаная тулья
Собой украсила кусты.
А я сижу в саду пирую,
Налью и выпью до конца.
За первой рюмкою вторую
Во имя Сына и Отца.
Чего тебе, моя зазноба?
Дай отдохнуть от ратных дел.
Мы как-нибудь исполним оба
Нам предназначенный удел,
А я хочу еще немного —
Вина и бешеной тоски —
Вне воли, истины и Бога,
И жизни грешной вопреки.
Лезут в уши чужие, безбожные, мертвые звуки,
Уведи меня прочь в бесконечные, Боже, разлуки,
Уведи меня прочь, занавесь мне неведеньем очи
И оставь мне пустынными дни и короткие ночи.
Я Тебя не прошу, я Тебя умоляю – не надо
Обрывать всю листву из отцветшего тесного сада,
Я Тебя заклинаю, оставь мне вселенские стоны,
Этот свет, исходящий толчками из темной иконы.
Я Тебя не прошу ни о самом обыденном чуде,
Ни о выходе в мир, где не вымерли близкие люди,
Где идеи еще копошатся пугливо за дверью,
Где есть место забытому каменным веком поверью…
Я стою на коленях, и лоб мой касается пола,
Правя тризну немую живаго намедни глагола.
Отложу свое рождение,
Отодвину смерть свою
И просторное мгновенье
Поживу в земном раю.
Не имея оболочки —
Кожи нежности и лба, —
Доведу себя до точки,
Силой выдавив раба.
И исчезну из работы,
Из ушей и глаз друзей,
Поелику до зевоты
Надоел мне Колизей.
Гладиаторы и звери,
Гам, сражение, мечи…
Я запру мирские двери,
В вечность выбросив ключи.
И свободен, как зарницы,
Аки талая вода,
Аки облак вереницы,
Я исчезну без следа.
Опять собаки кость не поделили,
Опять глаза вращаются во тьме.
И мне сойти с ума сегодня или
Подвинуться до ужина в уме.
И видеть в драке медленные танцы
И в клочьях пен бенгальские огни.
Дерутся с упоеньем самозванцы
Из самой дальней не моей родни.
Стоит туман, гремит себе посуда,
Сигарный дым и облако близки.
А на помосте – жертва пересуда,
И на груди – две скрещенных руки.
И плачет по нему моя молитва
Над скатертью, залитою вином.
Меж двух собак не затихает битва.
Их лай и визг чуть слышны за окном.
Я живу себе неспешно,
Безнадежно и грешнó,
В самом главном – неутешно,
Что, конечно же, смешно.
Где гагары ходят купно,
Как когда-то пионер,
Им давно уже доступна
Битва жизни, например.
Где кикиморы в эфире
Спорят нервно вкривь и вкось:
– Дважды два равно четыре, —
Утверждают обе врозь.
Среди этой круговерти,
Ближе А и дальше Бэ,
Может сплетничать о смерти
Только филин на трубе
И всерьез на эту тему
Ухать сонно смысла вне,
Подтверждая теорему —
Два Пи Эр равно войне.
И от Волги и до Бреста
То пальба, а то гульба.
В хороводе этом места
Нам не выкроит судьба.
Все меньше в природе озона.
Все меньше в природе добра.
И нет никакого резона
В потребности слов и пера.
В окошке убавилось света,
На грядках крапива, увы,
И нет в послесловии лета
Понятий плода и ботвы.
И птицы летят равнодушно,
Тонка Ариаднина нить,
И Богу, наверное, скучно
Проект неудавшийся длить.
Уходит в былое привычка,
Ни дня без борьбы и труда…
Все глуше шумит электричка,
Идущая вдоль никуда…
Злобы диагноз, конечно, не вечен.
Давних обид не уменьшена рать.
Жаль, что лечить эти тягости нечем,
Кроме ума и уменья прощать.
Снова земля, словно бранное поле:
Крики, мечи и селенья в дыму.
Мир непослушен рассудку и воле
В граде престольном и малом дому.
Что наши речи и бедные вздохи,
Нам не подвластна и наша судьба.
Мы только слуги текущей эпохи
Или рабы у другого раба.
Падает лист в истечении лета,
В небе кружится верста за верстой
Малая кроха, живая планета,
Бедная птица над пустотой.
Глухота не порок. Метафизика спит.
На стене не ружье, а короткие тени,
И у каждой детали изменчивый вид,
Словно это лекарство от смерти и лени.
Что мне делать, скажи, с этим призраком дат,
С невниманием воли и памятью тела,
Я столетья спустя тот же жалкий солдат
Не земного, увы, и ненужного дела.
И война впереди, и война позади,
А в душе только смута и робкая трата
Этой медной печали в чугунной груди
Не убитого жизнью солдата.
Что-то ворон раскричался над заставой,
Что-то ветер надрывается в лесу.
Неужели в этом мире, Боже правый,
Службу вымысла напрасно я несу?
И напрасно между этими и теми,
Что в засаде и, конечно, начеку,
Я мишенью обозначенное темя
И судьбу свою под выстрелы влеку.
Записаться бы, наверное, в солдаты
И сражаться бы на правой стороне.
Только в чем они, другие, виноваты
В этой самой необъявленной войне?
Что им скажешь про заботы и печали,
Что гнетут и верховодят искони?
Да и слово различат они едва ли
В лае выстрелов в тебя из-за брони.
Улетают надежды и страхи
И сплетаются в синей дали,
Как на тонкой веревке рубахи
На краю бесконечной земли.
И полощется прошлое зримо,
Словно парус на сонном ветру.
Я вернулся из Древнего Рима
К своему, напрокат, серебру.
Разложу на казенной бумаге,
Сосчитаю остаток спеша.
Меру вымысла, меру отваги
Сохранила, надеюсь, душа.
А в окне так кроваво и рьяно
Рдеет горькой рябины лоза,
И на дне вороненом стакана
Отражаются молча глаза.
Я допью эту пьяную меру,
Додышу в толчее глухоты.
И уйду в незнакомую веру,
За четыре нездешних версты.
Неутешно, светло и забыто
Плачет иволга в желтой листве,
Как устал я от бурного быта
В сумасшедшей и праздной Москве.
Междуцарствие сонное длится,
Жизнь отложена и смещена,
Неразличны эпохи и лица,
Одинаковы суть времена.
Вдоль империи – гул и разлука,
В середине – пальба и гульба.
Как обрыдла мне эта наука
Превращения рыбы в раба.
И с какой это розничной стати
Я застрял в разночинной глуши
На летающей низко кровати
В незатейливом ритме души.
А вокруг – безнадежные крыши
В рыжей ржавчине каменных рос…
Но гулит этой мерзости выше
Вроде голубь, а может – Христос.
В моей пустыне – желтая зима.
В твоей пустыне – мертвый кенгуру.
Как весело с утра сходить с ума
И знать, что поумнеешь ввечеру.
Глотнешь глоток казенного вина.
Помедлив, запрокинешь медный лик.
И, осушив посудину до дна,
Развяжешь свой завязанный язык.
И скажешь вслух кому-то никому:
– Вон там, в окне, меж солнцем и свечой,
Приспело время занавесить тьму
Прошедшим веком вытканной парчой.
И, сей железный занавес узрев,
Под пальцами неторопливых прях,
Проступит наконец двуглавый лев
С орлом двуглавым в стиснутых когтях.
Там, на воле, только тени,
Только шорохи и тьма.
Встану молча на колени
И опять сойду с ума.
Тьма во тьме, жива и рьяна,
Плачет, булькает, зовет.
Может, Боже, это рано.
Может, все наоборот.
Морда Бреста, хвост Камчатки,
Между ними – пустота.
Как размеры жизни кратки
Мерой Божьего перста.
Валок век, и не растрачен
Веры спутанный клубок.
Бог опять суров и мрачен
И пронзительно далек.
В двух руках – обломок света.
В двух глазах – зима и снег.
А вокруг – пространство лета
И замерзший человек.
Смерть ушла из обихода.
Жизнь исчезла до конца.
Стал я вроде парохода
Без привычек и лица.
Мерно трудятся машины,
Все известно До и От.
Жизнь проплыв до середины,
Плыть могу наоборот.
Все расчерчены маршруты,
Направление – река.
Так же коротки минуты,
Как прошедшие века.
Берега лежат отлоги,
Мирно движутся стада.
Время делится в итоге
На «когда» и «никогда».
Ты в зеленом сарафане
На нескошенном лугу
Только грезишься в тумане
На нездешнем берегу.
Только лодка у причала.
Только смутная вода.
Без конца и без начала
Жизни-смерти череда.
Жизнь одна прошла убого,
Жизнь другая на дворе.
Что-то стало меньше Бога
В наступающей поре.
Изживается аскеза,
Незатейливо греша…
Из обычного пореза
Праздно вытекла душа.
Бойко бедная эпоха
От свобод изнемогла,
И венчает скомороха
Вновь на царские дела.
Ничего себе забава
В царстве выцветших идей…
Равно слева или справа
Звери в образе людей.
Есть исчерпанность сюжета —
Продолженья тьмою света.
Штатной смертью – жизни грешной,
Однобокой и успешной.
Превращенья в то, что стало
Монотонно и устало.
Хорошо, что смерти сроки
Не длинней живой мороки,
И опять в земное тело,
Словно солнце, то, что село,
Мы вернемся, право слово,
Чтобы жизнь продолжить снова.
Так же вкривь и бестолково.
Слякоть, грязь, дожди, простуда,
На душе легко.
На столе стоит посуда,
В ней – «Мадам Клико».
На дворе горит рябина
Золотом огня.
Жизни праздной половина
Брезжит у меня.
Желты грозди винограда,
Рядом ветхий том,
За грехи мои награда —
Этот поздний дом.
На окне свернулась кошка,
Чуть болит плечо.
И вселенная в окошко
Дышит горячо.
Ветер выдует на флейте
То или не то,
Вы нисколько не жалейте
Рыжее пальто.
Не жалейте о потере,
Покидая дно,
Ибо каждому по вере
Будет вам дано.
Междометие в полвздоха.
Может быть, и вздох,
Мы – последняя эпоха
Среди всех эпох.
Остальных ничуть не хуже,
Что уже прошли,
Привяжите крылья туже
На краю земли.
Флейта, выдохнув, допела
То или не то.
Следом в вечность полетело
Рыжее пальто.
Никого не узнал на последней невстрече.
Никому не сказал наугад неслова.
И сквозь пальцы текли незнакомые речи,
И болела моя-немоя голова.
И мелькали навзрыд ридикюли и банты,
И кружились, едва задевая меня.
И свисали с плеча тяжело аксельбанты,
Несеребряным звоном устало звеня.
Я рассыпал у «Праги» невольно монеты.
И, ступая по ним, я вошел в полутьму.
В этот гомон живой не моей оперетты,
Незнаком, наконец, на земле никому.
А за окнами – кони, кареты, машины,
Пешеходы, свирели, труба, синема,
И домов островерхих лепные вершины
Всё сводили меня монотонно с ума.
Что я делал, скажите, в бессмысленном веке,
Одолев, торопясь, не бессмысленный путь…
Поднимите мне, нелюди, красные веки,
Чтобы в душу свою, наконец, заглянуть.
В этой новой реальности лихо,
Не чернее, чем было всегда.
Как на свете разбуженном тихо,
Где от сна не осталось следа.
Шелестят осторожно машины.
Шелестит, облетая, листва,
Среди ночи второй половины
Беспризорные бродят слова.
В них не то чтобы мера тревоги,
В них не то чтобы воли тоска,
В них все больше забытые боги
Крутят бледным перстом у виска.
Погуляли, попели, поели
И потешили душу вполне,
Не оставили бедную в теле,
А забыли случайно во сне.
Только угли у края камина,
Недопитое «кьянти» на дне,
Среди ночи второй половины
Нету истины даже в вине.
Нет надежды, нет тревоги, нет печали,
Птицы, в небе пролетая, прокричали.
Прокричали, улетели и забыли,
Продолжая мерить версты или мили,
Незаметно, постепенно, бесконечно…
Жизнь становится во мне бесчеловечна.
Жизнь за окнами мелькает,
Одномерно – До и От.
Кто хотел, тот умирает.
Кто не хочет, тот живет.
Закажу себе карету.
Или лучше подожду,
Оседлав верхом комету,
Спрыгну гоголем в аду.
Вот котлы кипят направо.
А налево виден рай.
Между ними – переправа.
Умирай не умирай.
Между ними – только вера.
С медной буквою псалтырь.
И своя, к примеру, мера
Каждой твари в рост и ширь.
На мосту свои законы.
Гомон, ропот, мельтешня,
Где когда-то в годы оны
Люди видели меня.
Боль опять мелькнет в затылке
Или, может быть, в виске.
И стою я на развилке
С медным грошом в кулаке.
Этот мир обходи#м за неделю,
Все сюжеты зажаты в горсти.
Застели мне закатом постелю,
Удалая навзрыд травести.
И, ребенка поутру качая,
Провожая меня на войну,
Навяжи мне на грудь молочая
И прости, если можешь, вину,
Что укроют меня у дороги
Неродные мои ковыли,
Что в наследство оставлю тревоги
И щепоть защищенной земли.
Что еще возле самого края
Нашей будничной маеты
Показал я развалины рая,
Где могла быть счастливою ты.
Где б нам ветер играл на свирели,
Где бы волчья не правила сыть
И тяжелые губы алели,
Истекая желанием жить.
Бредят листья, облетая,
Тем, что было и прошло.
Как они в начале мая
Пили первое тепло.
Дятел глухо барабанит.
В зарешеченном окне
Лист летящий память ранит,
Что давно приснилась мне.
Вот собака пролетела,
Вслед за листьями спеша,
Провожает в небо тело
Птицу именем душа.
Ветер дунул, все пропало.
Только свет и облака.
Словно жизни не бывало
Никогда у дурака.
Были мысли и детали,
Буквы с бытом пополам.
Да железные медали,
Да забот ненужный хлам.
Жить хорошо – ничего не познаша,
Праздно смотреть в пожилое окно.
А на столе – оловянная чаша,
В чаше на дне – не мирское вино.
Выпьешь до дна, постоишь на пороге,
Спустишься в осень, туманом дыша,
Вдруг отразится в неведомом Боге
Чья-то, на миг прозревая, душа.
Дерево срубишь, сделаешь дудку.
В дудку подуешь, выдуешь свет
Тот или этот, в пику рассудку,
Только бы сроком в вечнодцать лет.
Снова подуешь, выдуешь лето,
Поле, а во поле – рожь да ковыль.
Песня не начата, песенка спета,
Вместо истории – смутная быль.
Слева направо – царства и лица,
Справа налево – версты да дни.
Нелюди, люди, звери и птицы —
Сколько еще нелюбимой родни.
За воротами дома – ни дорог, ни людей,
Пустыри, да трава, да туманные дали,
Лишь маячат вдали силуэты вождей
С повторением профилей их на медали.
Я окошки забил и замок на двери,
Как чугунную гирю, надежно повесил,
Я укрылся в своей рукотворной Твери,
Где когда-то с любимой был ловок и весел.
Черный чай на железном тяжелом столе,
И чугунная чашка на мраморном блюдце.
Два патрона в глухом вороненом стволе,
И часы, что упали и больше не бьются.
Как нелеп в этот час телефонный звонок.
Как нелеп этот голос, слезами омытый,
Я ж еще не спустил невзведенный курок,
А сижу еще, праздный и сытый.
Что ты плачешь знакомо, родимая тварь,
Что ты любишь так сильно и больно?
Я – не твой этой жизни наследник и царь,
И разрушен мой храм, и разбита моя колокольня.
Открыть глаза – нелепая затея,
Увидеть мир и молча умереть.
Забитый дом, заросшая аллея
И винограда высохшая плеть.
Неспешный день, декабрьская Ницца,
И пальцы нежно мерзнут на ветру.
Неужто мне когда-нибудь приснится,
Что я проснусь и медленно умру,
Машины потеряют части речи,
Исчезнет звук погашенной луны,
И море, опустив крутые плечи,
Лишится междометия волны.
И ветка больно прорастет сквозь кожу,
Кольцо на камни скатится, звеня,
И солнышко, кривя в ухмылке рожу,
Спокойно отвернется от меня.
Природа девственно глуха
К твоим печалям, брат,
Скрипит бессмысленно ольха,
Стучит по крыше град.
И плачет ветер день-деньской
Навзрыд и ни о чем.
А мне дано смотреть с тоской
На праздный окоем.
Скажи, зачем мне ведать страх,
Болеть чужой бедой,
И знать всегда, что данный прах
Развеют над водой?
Зачем мне вера в чох и жох,
Что в грудь мою стучит?
Об это знает только Бог,
Но знает и молчит.
Желты листья бересклета,
Клены жаркие красны.
Нет обратного билета
В недосмотренные сны,
Где ты глупости приспешник
Или Ирода слуга,
Где ты любишь, праздный грешник,
Друга меньше, чем врага.
Где свобода – лишь утрата
Чести, верности, стыда
И еще в придачу дата,
Дата Божьего суда.
Упруго сердце и прохладно,
Душа трезва и тяжела,
Живу нелепо и нескладно,
Верша убогие дела —
Кормленье белок и собаки,
Уборка листьев и дорог
И писем чтение с Итаки
На мой – больной – полувосток.
А жизнь прошла, вторая тоже,
И третья брезжит с трех сторон.
И да, еще, помилуй, Боже,
Долгов не отданных вагон —
Тепло, забота, вера, слово
И бег за тенью, аки все,
Чуть отдохнешь и дале снова,
Как белка в беглом колесе,
Дыша, болея, побеждая,
Надеясь, мучаясь, скорбя…
И хорошо, что дальше рая
Нет перспективы у тебя.
Опять война стучится в двери,
Коряво крутится кино.
Увы, но каждому по вере
Едва ли будет воздано.
Горит ночник, на окнах шторы,
И смерть скитается окрест
Под тары-бары разговоры,
Под на стене прибитый крест.
И в воздухе разлита рожа
Туманно, смутно и едва.
И надо жить, себя итожа
По всем законам естества.
В которых – смысла никакого,
Одна печаль и благодать,
Да веры медная основа —
Страшнее жить, чем умирать.
Большого облака заплата
На небо синее легла,
Из обезглавленного штата
Прислали утром полкрыла,
С печатью красной на картоне,
С корявым адресом, увы,
Что был написан в Вашингтоне
И вот доехал до Москвы.
Литые клавиши забросив,
Свечу на бронзе запалив,
Я для тебя, мой друг Иосиф,
Веду, скрипя пером, мотив.
В нем мало слов и мало веры,
Надежды тоже ни гроша,
Плохие жесты и манеры,
В которых теплится душа.
Судьба развеяна по свету
За сумму богоданных лет,
И прошлого в запасе нету,
И даже будущего нет.
И вывожу, насупив брови,
Про то, что било и несло.
Скрипит перо с помаркой крови
В руке, забывшей ремесло.
Есть исчерпанность сюжета —
Жизнь и смерть, зима и лето.
Войны, смерчи, наводненья,
Жалкий приступ вдохновенья.
Власть, чума, успех и слава,
Божий суд, мирское право.
Что ж так сердце резво бьется
У забытого колодца,
Возле жальника над речкой,
У иконы с желтой свечкой,
От слезы твоей любимой,
Всё никем не заменимой?
Только тронь – и отзовется,
Все никак не разобьется.
Огни мерцают еле-еле
Сквозь ветви голые сосны.
Который год уже Емеле
Не снятся праведные сны.
А только серая завеса
На фоне смуты и свинца,
Ни зелени живого леса,
Ни различимого лица,
Ни тени женщины, скользящей
Легко под зеркалом небес,
Такой родной и настоящей,
В любви живущей или без.
Но сон идет, но сон светает,
И даль приблизила черты,
И постепенно смута тает,
В которой различима ты.
И гаснет прошлое устало,
И явь разбужена близка.
И тело черного металла
Дрожит в ознобе у виска.
Кому-то тернии любви,
Кому-то сон и пересуды.
А мне горячее «Аи» —
Мирское средство от простуды.
Витая свечка на столе.
Камин живет, дымя и плача.
Да снег летит на помеле,
Для мысли ничего не знача.
Страниц старинных желтизна,
И ветхость кожи переплета.
Мала домашняя казна
Для – в край желанный – перелета.
И что я делаю, скажи,
В расхожий век в предместье Вены…
В полкилометре до межи,
И вечности, и перемены.
Устав от праздного труда,
От царства страха и неволи,
Дурак отправился туда,
Где нет забот земной юдоли.
Внизу оставив облака,
На горы лез, срываясь с кручи,
И узнавали дурака
В лицо нахмуренные тучи.
И так он жил, вотще стремясь
Сквозь селы, версты и недели.
И исчезала с миром связь,
Что держит жизнь на самом деле.
И наконец финал дорог,
Граница государства рая.
Усталый странник изнемог
И задремал изнемогая.
И жалок был бродяги вид,
И жалок был образчик входа —
Земной расколотый гранит,
И скудная вокруг природа.
И стражники, намяв бока
И оголив худое тело,
Подняв, швырнули дурака
Туда, где плакало и пело.
Где вяз качался и скрипел,
Где всадник мчался по равнине,
И коростель коряво пел
В мирской и сумрачной пустыне,
Где шла привычная война,
Дымилось утлое жилище,
Плыла ущербная луна,
Лия свой свет на пепелище.
Война на бешеном Востоке.
До мировой подать рукой…
Как люди странны и жестоки
В своей юдоли роковой.
А за окном в живом пейзаже
Церквушки тонкие кресты,
Зима, распутица и даже
До счастья к югу три версты,
До голубого небосвода,
До моря мертвого вдали.
Меня хранила несвобода
От края жизни и земли.
От малых бед и прочих буден,
От безразличия времен.
И оставался неподсуден
Любой мой бесконечный сон,
Где столько раз душа убита,
Где столько раз воскресла вновь,
Где вечно плачет «Рио-Рита»
Про ненасытную любовь.
Уплываю от вашей погоды,
Улетаю от зябкого дня,
И вдогонку мелькнувшие годы
Осеняют надеждой меня.
Я у моря тяжелого встану
И оглохну от шума волны.
И, лицо подставляя туману,
Я дотронусь до мокрой луны.
Вытру слезы небесной подруги
И утешу, чем только могу.
Хорошо на Нероновом юге
Вспоминать безмятежно пургу,
Забывать о несбывшейся встрече,
О судьбе, превратившейся в быт,
И, конечно, что правнук Предтечи
Будет мертвым осколком убит.
Все равно, чем кончается это кино —
Кровью, свадьбой иль прочей забавой,
Я допью наконец не мирское вино
За какой-нибудь дальней заставой.
Без меня достреляют, доспят, допоют,
Без меня разберутся в небесной задаче,
Без меня дожуют и успех, и уют
Под штандартом греха и удачи.
Все равно мы с тобою в одном тупике
И с судьбою прижизненно квиты,
Словно туши мясные на ржавом крюке,
Будут души попарно прибиты.
Я давно заблудился в нездешнем лесу,
Раньше жизни, пустой и никчемной,
Так зачем и кому я упорно несу
Это бремя полуночью темной?
Чья-то гаснет звезда надо мной в небеси,
Тяжелее и ýже земная дорога.
И молитвы слова – «помоги и спаси» —
Не доходят, наверное, даже до Бога.
Молитва моя не доходит до Бога.
И вера моя истончилась давно,
Как будто до смерти осталось немного
В немом, и печальном, и странном кино.
В нем было начало, в нем были финалы,
Вина, дорожденье, заботы, дела,
Чего же, душа, ты так праздно устала,
Как будто напрасно чего-то ждала?
Поставим пластинку на диск граммофона —
Старинный романс о несчастной любви.
В нечаянном ритме церковного звона
И с дивным портретом твоим визави.
Колеблются свечи на фоне камина.
Голландского лика знакомый овал.
В окошке замерзшая в белом калина,
В хрустальном и красном – живой краснотал.
Как весело слезы ронять на страницу.
Как весело жить, умирая давно,
И жадно смотреть на судеб вереницу.
В немом и печальном, знакомом кино.