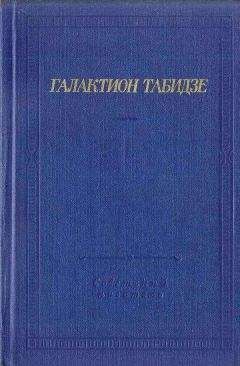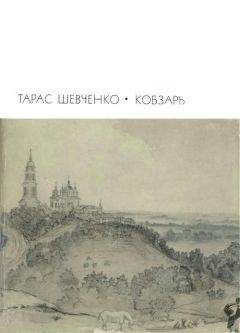Максим Рыльский - Стихотворения и поэмы
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
© Перевод К. Липскеров
Чи буде суд? Чи буде кара?[134]
Т. ШевченкоПо лужицам на постоялый двор
Въезжает бричка. Кто б ни кинул взор
На эту бричку, если даже кони
Ему — ничто, постигнет, что персоне
Среди персон сей служит экипаж,
Что путник наш — приличий верный страж,
Что им всегда научен будет кучер,
Как выезд холить (надо лишь покруче
С ним поступать, спусти ему лишь раз —
Колеса перестанет мыть тотчас).
Итак, приезжий — вывод несомненный —
Был человек бывалый и степенный.
Конечно, так. Еще не старый пан,
Чей приобрел уже округлость стан,
Из брички вылез, надавив рукою
Плечо лакея. Перед ним дугою
Седой мишурес гнулся на крыльце.
Пан, с милою улыбкой на лице,
Как малую пушинку, снял с сиденья
Красавицу — супругу, без сомненья.
«Покой, да лучший!»
— «Пане, мы для вас
И не такой найдем во всякий час!
Вельможный пан! Вот радость-то какая!
Забыли нас!..»
— «Голубка! Дорогая!
Устала?» — будто слов и не слыхал
Почтительных, жене своей сказал
Приезжий.
«Да, немного, друг… дорога…»
…Вошли в покой. Заботливость, тревога,
Звучавшие в приезжего словах,
Понятны нам: и за жену был страх,
И страх другой — за существо второе.
«По правде, не с охотою — не скрою —
Иду я в город… Дело так велит!
Ты отдохни. Головка не болит?»
— «Нет, милый… только… нет, не знаю даже,
Сказать ли… так хотела б я…»
— «Куда же?
Я для тебя…»
— «В театр…»
— «Ну, вот куда!
Смотри, не получилась бы беда!»
— «Беречься буду. Прямо нет терпенья,
Так хочется увидеть представленье:
„Днепровская русалка и злодей“».
— «Твоей головке только до затей!..
Приехала, и полежать бы надо,
А ты — в театр…»
— «В глазах твоих досада.
Ну, не сердись… к спектаклю отдохну».
— «На жизнь свою сердиться, на весну?
Ты хочешь — значит, будем на спектакле.
А странная история — не так ли?..
Вновь с Замитальским… всё мне дико тут.
С театра он — венец его причуд! —
Добыть собрался прибыли большие».
— «Но, друг… его певицы крепостные
Не плохи… много свежих голосов…
Какой-то там артист из поваров
Так одарен… О нем — я так слыхала —
По всей стране молва уж пробежала…
Не знаю только…»
— «Верь-ка всем словам!
Твердил, бывало, дядя мой Адам:
„Из пастухов цари тогда бывали,
Когда по-человечьи рассуждали
Ослицы…“ Но теперь другие дни.
Где тонкость чувств? Где чувства? Где они,
Извилины души высокой, горней,
У свинопаса, повара, у дворни?»
— «Марьян, ведь ты любил простой народ,
Любил ты песни, что народ поет,
И даже сам ты напевал, бывало,
Как войско запорожцев выступало».
— «Забыл и думать! Сплыло всё давно!
Так иль не так, а всё же не должно
Шляхетской и взыскательной натуре
Подобной предаваться авантюре,
Как Замитальский… Не хватает лишь,
Чтоб он, стремясь умножить свой барыш,
Сам пред людьми помчался в пляске дикой!
Ну, я пойду… обед нам закажи-ка…
Я, Стасенька, сейчас же возвращусь.
С одним купцом никак не соберусь
Покончить дельце… очень он упрямый!»
И он пошел, уверенно и прямо,
Походкой гордой.
А она лежит
И отдыхает. Маревом скользит
Неясных помышлений вереница.
Красавица! Тебе ведь и не снится,
Что именно сюда твой муж Марьян,
Тогда паныч-повеса, а не пан,
Девчонок приводить велел, бывало…
Но этому не он ведь дал начало,
И этому не он положит край.
А ты лежи, лежи и отдыхай!
Ты хороша, как роза на рассвете!
Всё к лучшему идет на этом свете.
И вот чуть слышный голос, прозвучав,
Умолк. И умерла она меж трав
И меж цветов, качающихся в балке.
Навек усни, днепровская русалка!
Марину в ней — узнать и не узнать!
…Она! Конечно! Полно же молчать!
Визжите, скрипки! Фонари, светлее!
Ха-ха! Артистка! Чаровница! Фея,
Проигранная в карты! Хлев свиной
Для театральной своры крепостной
Подходит. Гениально! Свинопасы,
Одетые в сусальные прикрасы,
Чаруют простоватых горожан!..
Глянь — Замитальский! Сам вельможный пан!
Авантюрист… «Мы так всегда вам рады!
А в мире лучшей нету ведь отрады,
Чем с милыми друзьями… Ну, живей
Ко мне! Мой новый повар — чародей!
Что голодать! Вожу его с собою…
Итак, прошу отужинать со мною, —
Ей-богу, королевский майонез…
Я мигом…»
И, как мячик, он исчез.
Уж он в конце сырого коридора:
Там нужно проучить ему актера,
Который спал пред рампою… Да! Спал!
И вот «рецепт» мгновенно прописал
Антрепренер: сонливую ворону
Пощекотать немного… для разгона.
Подумайте! А роль ведь так легка!
Ведь мельника играл он! Старика!
И бестия проучен был умело.
Уладив неотложнейшее дело,
Антрепренер — вернее, меценат —
Балетных пощипал слегка дивчат
И вышел; ох, возня всегда с балетом!
Недавно (только это под секретом)
В Бердичеве был случай: пущен в свет
Впервые был пленительный балет
Такой: «Амур, Сатиры и Дриады».
Для панства лучшей не найти услады!
Как раз в то время ярмарка была, —
Пан Замитальский делал там дела:
Ни труппы не щадил, ни декораций.
Под потолок одна из легких граций
Должна взлететь… Актеров заглуша,
Весь зал ревел. Как девка хороша!
И ножки — боже! Всё отдай, да мало!
И вот внезапно — черт! — она упала
С ужасным криком… Речь моя вольна,
Простите, но скажу… была она…
Беременна, и было то известно
И Замитальскому. Но неуместно
Нам возмущаться. Нужно ж было ей —
Дриаде! Фу! — упасть среди огней
И дико выть, ей — нимфе тьмы дремучей!
Испортил всё досадный этот случай.
Убыток вновь. Да как ему не быть!
Дриаду ведь пришлось похоронить…
А впрочем — это мелочь!
Одиноко,
Потупя взор, задумавшись глубоко,
Сидит Марина. Ей пора давно
Идти туда, где жить отведено
Всей панской труппе. В грязную хибарку…
Задумалась. Опять вскипая жарко,
В ее душе вдруг разгорелась вновь
Вся ненависть, что глубже, чем любовь,
Что уж давно… с той ночи поднималась.
Да! Это он! Она не обозналась:
Ведь это он сидел сегодня там,
В кругу дородных, разодетых дам,
Панов сонливых, панычей шумливых
И панночек в уборах прихотливых.
Его уста, коварные уста,
След от которых на ее лета
Печатью лег, навек неизгладимой, —
В ночи позорной, в памяти хранимой,
Они шепнули лживые слова.
Его уста презрительно, едва
Кривились, пресыщённо и лениво.
Марьянчик! А! Живешь ли ты счастливо?
Поместье, и хозяйство, и жена?
Твоим вином навеки я пьяна,
Марьянчик! Пусть проклятие ложится…
Нет! Нет! Что проклинать! Чему дивиться?
Довольно слов, Марина! За дела!
Ему подобных свора не мала!
Кровь черную на землю пролила
Ночь сентября. Не видно уж села.
Исчезли в мраке низенькие хаты.
Лишь в панском доме, мраком не объяты,
Сверкают окна — тени за стеклом:
То профиль там покажется, потом
Руки движенье. Нежных муз и граций
Любитель щедрый (столько ассигнаций,
Да и труда в спектакли он вложил!) —
Пан Замитальский нынче пригласил
На ужин и соседей и знакомых.
Конечно, не в таких сейчас хоромах
Он проживает — да, проходит всё! —
Однако тут найдется то да се, —
Карповичей, Медынских мы уважим.
Долг хлебосольства — просто, пане, скажем!
Поужинав, прополоскавши рот
Венгерским, он изрядный анекдот
Им рассказал; кому какое дело,
Что дамы раскраснелись! Правда, смело
Немного… смеха всё ж не превозмочь.
Вот кровью черной сумрачная ночь
И панский дом теперь уж затопила.
Уснули все… Вин многолетних сила
Дремоте чар немало придала.
Кого же тут окутывает мгла,
Как будто материнскою полою?
Кто крадется к застывшему покою,
Где свет угас и смолкли голоса?
Как видно, свой: не слышно лая пса.
Играет пес да ластится вертляво…
Уснули! Спят! На сон спокойный право
Дала им сытость и скрепила власть.
Спит пан Медынский — лишь недавно всласть
Он целовал спасенную Марину…
Спит Замитальский, — погрузись в перины,
Он лысину в подушках утопил…
Спит пан Карпович, — в грезах совершил
Он многие чудесные поступки…
Младенцем спит, слегка надувши губки,
Его толстуха, тощего ксендза Поклонница…
Сомкнув свои глаза,
Так соблазнительно вдоль одеяла
В постели Стася руки разметала…
И каждый в мир мечтаний унесен…
С тобою явь сравнится ли, о сон, —
Где, всё забыв, не внемлем укоризне,
Где всё живет, но всё не то, что в жизни,
Где ни сомнений, ни раздумий нет…
Уснули! Спят! Дневных поступков след
Их в запоздалый трепет уж не бросит!
Вот пан Карпович — раз на сенокосе
Он как-то был. И в этот самый день
«Безбожного Вольтера дребедень»
(Супруги набожной определенье)
Иль «дивное народам вразумленье»
(Вольтера так сам пан определял) —
Ну, словом, на него тогда напал
Дух вольтерьянский — может быть, в квадрате!
А дурни-хлопы — этот сброд завзятый! —
Тот день считали праздником большим.
Смешно сказать! Да, нелегко жить с ним,
С таким народом! Словно с дикарями!
Коварный дождик брызжет над полями —
Им всё равно! Им — праздник! Сто чертей!
«Накажет бог!» — Ну, с помощью плетей
Он всех их выгнал в поле в тот денечек.
(Замечу я… так… только между строчек,
Что сам Вольтер, по правде вам сказать,
Умело мог хозяйством управлять,
И прибыли считал он досконально.)
И все-таки тоска брала буквально,
Что мозг мужицкий сумраком одет.
А впрочем, не на благо было б — нет! —
Когда б они, тупые поселяне,
В церковном не барахтались тумане, —
В бунтарскую они бы впали тьму.
(Приходский ксендз — хвала его уму! —
Всё понимал: ведь сам творец «Кандида»
По воскресеньям ездил — пусть для вида —
На мессу, как последний из дворян,
Пример давая добрый для крестьян.)
А в общем — ну народец! Боже правый!
Что за приметы, песни! Что за нравы!
Какая бездна дикости глухой!
Почтительности даже нет простой
Пред институтом собственности, право!
А в горечь дум к тому же влил отраву
Мальчишка — он на панском поле пас
Рябую телку… «Разве я припас
Такое пастбище для мужичонки?»
И не успел опомниться мальчонка,
Как уж нагайка в воздухе свистит…
Пусть в памяти он дольше сохранит,
Как скот свой загонять в чужое поле!
«Что? Я губу рассек тебе? не боле?..
Пускай отец увидит твой иль дед
Моей учебы незаживший след.
Пусть розгами еще проучит внука
Иль сына. Да! Наука — так наука!
Учить их по-иному? Никогда!
Ни совести не знают, ни стыда!..»
Спит вольтерьянец. Образ мальчугана,
На чьей губе еще сочится рана,
Не встанет ночью. Глупость! Легкий шрам!
А ты, ты всех изысканней меж дам,
Медынская! Взгляни: в воде зеркальной,
Блистая белизною идеальной,
Нагая грудь твоя отражена
И плечи — их Тибурций, вполпьяна,
Лилейными назвал. А брови эти!..
Но скрыты в обольстительном портрете
Черты жестокосердия и зла:
Когда у туалетного стола
На горничных ты гневаться изволишь,
Ты шпильками их прямо в груди колешь —
За Клеопатрой царственной вослед.
Да! Спишь и ты, в тебе тревоги нет,
Под одеялом легким опочила.
Твой муж — к нему богатство привалило —
О юных позабыл своих годах,
Твои желанья ловит он в глазах,
Заботится, глядит, как на картину…
Хотя, в театре увидав Марину —
Мужичку и «актерку»: «Фу! Нашел!»,
Он побледнел немного… Злой укол
Почувствовала Стася… Но и только!
Мир не нарушен в доме был нисколько,
И даже спора не произошло
О том, чтоб к Замитальскому в село
Поехать погостить по приглашенью.
Спит и Марьян. Не спать? Смущаться тенью
Былого? Проиграл? Кого? Пустяк!
Ведь за коня готов был он и так
Отдать ее. Мужичку — вон из списка!
Ну а теперь, теперь она «артистка»!
Сыта, в довольстве, в славе, черт возьми!
Притом — ведь всё известно меж людьми —
Сам граф Ловягин, кавалер столичный
И к женской красоте не безразличный
(Он ей вниманья много уделял
И не одну красотку описал
В брошюрке «К малороссам из столицы»,
Где лошади, собаки, молодицы
В букет прелестный объединены),—
Так этот граф — конечно, рождены
Его мечты стремленьем эстетичным —
Не поскупится «кушиком приличным»
(Его слова) на то, чтобы скорей
Купить Венеру эту… У дверей
Была Марина, слышала, незрима,
Как Замитальский в ухо «пилигрима
Земных красот» и «эллина» такой
«Куш» прошептал, что тот, став сам не свой,
Лишь рот раскрыл. Однако тут уменье
И время роль играют. Украшенье
Всей труппы не отдать же за пятак!
Слуга покорный! Нет! Он не простак!
А ведь дела такого стали сорта,
Что нужен «куш». С деревни ни черта
Не вытянешь, а труппа… в свой черед
С ней разоришься… Месяц — и банкрот…
Затем-то Замитальский, кинув сети,
Их затянул на страннике-эстете,
Во сне червонцы ловит вновь и вновь…
Ночь сумрачна. Как бы густая кровь
Застыла, обагрив земные раны…
…Вскочила Стася: «Что за отсвет странный?
Огонь! Огонь!» Иль это всё во сне?
Нет — огненные змеи по стене
Ползут и ноги жалят тонким жалом!..
А за окошком, в очертанье алом,
Мелькают люди, косы, вилы… А!..
«Вы пляшете? Терпели мы года!
Пляшите же! Ведь наши вам когда-то
Плясали обнаженные дивчата!
Теперь, паны, пришел, как видно, час —
Вы в пламени попляшете для нас!
Бежать? Куда? Иль хочешь, чтоб поддела
Я вилами твое нагое тело,
Медынская?»
— «А, вот и ты, Марьян!
Эх, на словах когда-то был ты рьян!
Про братство, про любовь болтал, про волю!
Последняя любовница на долю
Тебе, дружок, оставила пожар —
Цветок румяный, новобрачным дар».
— «А! Вы свершали договор торговый,
Пан Замитальский, торговать готовый
Всем светом, лишь бы отыскался спрос!»
С Ловягиным из рдяной мглы вознес
Хозяин руки белые. «Что? Ярко
Горят огни? И души жег нам жарко
Твоих утех, твоей забавы яд!
Стоишь в окне? Твой жалкий молит взгляд:
„Ведь я вам друг! Я человек душевный!“»
Но вот топор сверкнул зарею гневной
Из темноты…
«Руби!»
— «Да нет, постой!»
— «Пусть греются!»
— «Паныч наш дорогой!
Мое дитя испортил ты, Оксану,
Припомни-ка!»
— «Пусть доблестному пану
Припомнится тот радостный денек,
Когда под звуки песни на пенек
Он, пьяный, сел и криком наслаждался,
А крик тот из конюшни раздавался.
Стегать велел… разок… еще разок,
Счет перепутав…»
— «Вспомни-ка, панок,
Припомни наши муки, наше горе,
Наш горький пот и слез горючих море,
Забавы, шутки! Жадный до похвал,
Ты ради них, панок, учетверял
Дни барщины!»
— «Мы все тут, лицедеи!
Твои, наш пан, корыстные затеи
Нас оторвали от родных полей —
Изображать вельмож да королей,
Всё ж оставаясь жалкими рабами.
Безвестный мир открыл ты перед нами,
Нам показал приманку лучших дней,
Чтоб нам казались вдвое тяжелей
Те гири, что к ногам нам привязали!»
— «Да, это мы сквозь тонкие вуали
Невинною сияли наготой
Перед распутной, пьяною толпой,
Покрытые мучительным позором…
Да, это мы предстали вашим взорам —
Плясуньи, феи, нимфы и певцы…»
— «Калеки дочки, нищие отцы,
Да малолетки сироты, да вдовы.
Слуга, стелиться под ноги готовый,
Покорный пахарь, дикий волопас —
Мы все пришли! Встречай, хозяин, нас!
Неси меды! Разлей хмельные вина!»
— «Да, это я, красавица Марина,
Твой выигрыш, игрушечка твоя!
Тут было скучно, сумрачно, а я
Сто сотен свеч для пана засветила!»
— «Бей! Режь! Пали!»
И вот ширококрылый
По всей усадьбе носится огонь.
Уж не один хрипит предсмертно конь,
Грызет поводья, дико бьет ногами
Горячий прах. Пурпурными цветами,
Кровавыми снежинками летят
И падают, как снежные узоры,
Те голуби, вздымал к которым взоры
Пан Замитальский там, у флигелька…
Возмездья час! Как нож Зализняка,
Как сабли Гонты быстрые удары —
Сверкает гнев. Конюшни и амбары,
Скирды, овины жадный пламень жрет.
Пусть всех, пусть всех назавтра повлечет
В Сибирь свирепая, тупая сила.
Пускай тюрьма! Пускай Сибирь! Могила! —
Всё лучше, чем издевка, немощь, гнет!..
Наум, согбенный, в зареве встает,
Встает Марко с виском окровавлённым,
С ножом в руках — блестящим, освященным,
Клейменые восстали в кандалах,
Сгустились тучи, громы в небесах,
И песнь Кармалюка гремит грозою.
И надо всем, багряною звездою,
Стоит она, сомкнув свои уста,
Стройна, прекрасна, но уже не та, —
Не та, кого бросала в плач кручина, —
А — гром! А — гнев! А — мщение! — Марина!
455. ЖАЖДА