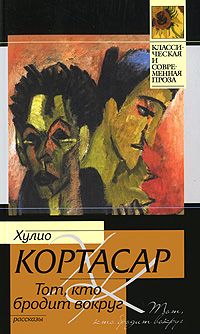Габриэла Мистраль - Избранная проза
- Говори, говори, мать Тереса!
- Все это делает Любовь, а не пыхтенье над словом. Пойми, когда мнешь так и эдак то, что хочешь сказать, оно у тебя гниет, точно плод лежалый. Слова, дочь моя, каменеют, если заступят дорогу Благодати, которая идет им навстречу. Для этого, для стихов, надо избавиться от всякого волнения. Путь не там, где мы себя подталкиваем к Богу, а там, где Бог сам приближает к нам свою Мысль! Тогда и рождаются стихи чистые и круглые, как валенсийские апельсины -- без единой щербинки, которые есть во всем, что мы делаем руками. И нельзя забывать, что все это -- лишь пленительная игра с Духом, не более. И нет тут никакого повода тщеславиться и кичиться. Нет никаких причин думать, что рифмы найденные избавляют нас от трудов тяжелых. Ибо нет в том твоей заслуги. Это ведь, как играть с детьми, или забавляться с водой, что бежит себе и бежит... Вот так и с поэзией.
Мы перешли ручей. Моя старая монахиня легко перепрыгнула через него и, стоя на другой стороне, любовно смотрит на воду.
-- Тебе вода более всего по сердцу, и ты воспела ее, мать Тереса, подарив нам множество прекрасных МЕТАФОР.
-- У мистиков, дочь моя, всегда будут и вода, и воздух, и огонь, -говорит Святая Тереса, -- огня тебе не занимать, а вот воды -- недостает. Ты все время обжигаешься и нечем тебе остудиться. Смотри! Земля от огня спекается. Подняться к Богу -- значит, войти в пламя, а сойти к ближнему своему -- это, как спуститься к воде, где душа твоя умиляется.
В полдень, когда ни ветерка, Кастилия цепенеет, будто время для нее остановилось. Вся она -- воплощение Экстаза Святой Тересы. И, боязливо отводя глаза, я говорю монахине:
-- Открой мне, мать Тереса, как ты приходишь к Восхищенности?
-- Вздумала, что спросить, дочь моя! Говоришь со мной, будто с нынешними честолюбцами. Значит, сама все еще уповаешь на Озарение, ждешь, когда к тебе сойдет Бог? Знаешь, что есть Благодать? Вот слушай: ты к Небесам восходишь, как бы нежданно-негаданно. Тебе это радость нечаянная... Представь: ты стоишь, опершись рукой обо что-то, даже не подозревая что это -- дверь. А она -- раз! -- и открылась! Или трудишься в наклон -- то ли ризу расшиваешь золотой нитью, то ли ветви подрезаешь у апельсинового дерева, а небо вдруг распахивается и ты возносишься к самому Сокровенному. А когда врата небесные закрываются, ты -- как обрезала ветви, так и обрезай, делай свое дело земное.
Мы проходим маленькое безмолвное селение, будто от века окаменевшее на этой иссушенной земле. Страшная бедность затянула его сплошь, точно омертвелым мхом. Даже шаги наши отдаются печалью. В одном из окон появилось чье-то лицо -суровое, худое и властное. Эта властность совсем не вяжется с пустынной улицей. Лицо, будто само по себе.
Мать Тереса, почему так нищи деревни твоей Кастилии? Почему у здешних людей такая нехоть ко всему? Такая апатия! Зачем ты допустила это, если в твоих руках все горит?
-- Наши бедняки не чета вашим, дочь моя. Я знаю лица твоих бедняков, они истрепаны, смяты постоянным унижением. Да и в твоих губах нет упованья, и голос у тебя -- упавший, надтреснувший. А посмотри, дочь моя, на лик Кастилии. Нет подобного ему в мире! И поныне в его твердо сжатых губах -сама воля. А голос, он повелевает. Да и что вам далось это слово "апатия"! Время наше так испоганилось, что оно путает волю с алчностью, со своекорыстием и называет апатией равнодушие к наживе, к праздным шатаниям по свету. Испанская Воля сражалась долго и завоевала ровно столько, сколько по тем временам ей было угодно завоевать на всей земле. Веками она устремлялась к тому, что ВОВНЕ, а теперь смотрит ВНУТРЬ СЕБЯ, она там, где душа и поныне -- яростная, где муки любови, и где уменье владеть собою. А испанская мистика? Это ли не безмерная воля к единению с Богом? А испанская любовь? Это ли не самая алая, самая распаленная воля из всех что гуляют по свету, как молодые тигры, выпущенные на свободу?
Вдали встает Сеговия и моя монахиня всплескивает руками:
-- Смотри, вон на том холме Монастырь Иоанна от Креста!
И я вижу на холме монастырь, а рядом зыбкую дрожь темных кипарисов. Очертания холмов мягкие, округлые, как женская щека. В одной из складок холма, точно сотворенной чьей-то милостью, притулился монастырь, где еще один Серафический учитель умел слушать ночь в прекрасном безмолвии и трудился под ее покровом, будто в лоне Господнем. А внизу река рассекала тишайшую ночь своим неустанным биением.
Этот холм, перед которым расстилалась огнистая парча заката, даровал Иоанну от Креста обжигающую метафору. В полночь, не видя красок и не слыша ароматов монастырского сада, он в своей узкой келье слагал Песнь о Тайном Источнике:
Я знаю ключ, без устали бегущий,
Хоть мрак все гуще.
Тот вечный ключ от зрения таится,
Но знаю лог, в котором он струится,
Хоть мрак все гуще.
Во мраке, обступившем человека,
Я знаю: ключ -- моя звезда и веха,
Хоть мрак все гуще.
Не знаю, где у той струи начало,
Но нет начал, каких бы ни вмещала,
Хоть мрак все гуще.
Я знаю: нет ей равных красотою
И все, что есть, поимо влагой тою,
Хоть мрак все гуще.
{перевод Б.Дубина}
Мы входим с ней в монастырь и обе приникаем в поцелуе к надгробной плите того, кто дал моей монахине учение о пути к Тайному. И я снова и снова убеждаюсь в том, что именно от мужчины, от него женщина получит естество, плоть сына или плоть Христа, ибо в одиночку она лишь бредет ощупью по миру, словно в кромешной тьме.
19 июля 1925 г.
Перевод Э. Брагинской
Неаполь
Залив! Залив! С того раннего утра, когда наш пароход, с еще сонной оснасткой, вошел в его воды и до той последней минуты, когда поезд, уходящий в Рим, отнял его у нас и оставил за горизонтом, в моей жизни существовал только он -- Неаполитанский залив. Да и сам город... До чего живописный (похоже, он навсегда присвоил себе это прилагательное) -- улочки без тротуаров, узенькие, будто игрушечные... Умилительные ослики, впряженные в повозки, -- таких серебристых и веселых осликов я не видывала нигде, -- радостно-нагловатые лодочники, самые отчаянные плуты среди здешних тружеников моря... Весь этот портовый люд с их неуемной жаждой веселья: они радуются жизни, как радуются цветущей розе, когда ее несут в руках. И дома в четыре-пять этажей с немыслимой пестротой выстиранных вещей на веревках, которые протянуты чуть ли не над крышами дворцов. А музыканты, они точно биение чувственной крови ночного Неаполя... Я так и вижу все это теперь, после разлуки с заливом.
Много раз сказано о Неаполитанском заливе: "Это -- настоящий шедевр Природы". Так оно и есть! Все остальные заливы -- лишь подступ к нему, прекрасный набросок, этюд художника к гениальному полотну.
И мои завороженные глаза упиваются красотой Неаполитанского залива, этого воистину шедевра Природы. Я объездила чилийские архипелаги вдоль и поперек, я побывала в бесчисленных фиордах, бухтах, портах, но, оказывается, не знала - не ведала, что такое -- Залив. Мне запомнилось определение залива в географическом учебнике моего детства: "Вторжение моря на сушу". А здесь, здесь в землю вонзен огромный зеленый нож моря, и вода вдали волнуется, точно разгневанный дьявол -- катит-накатывается ее немолчный рев. Есть бухта много шире, она счастливее других, в ней свободно располагается до трехсот парусников. Есть и такие замечательные, как наша, перуанская, в Кальяо, с почти безупречным полукругом береговой линии. Но и ее не сравнить с таким совершенным творением природы, как Неаполитанский залив, что похож на огромную золотистую грудь самого Бога...
Средиземное море, которое сумело втиснуть океан в свои золотые ножны, творилось, поднимаясь на новые ступени цивилизации, так артистично и вдохновенно, как и его чудесные раковины.
Залив расположен не в центральной части моря, в связи с этим мне вспоминается одно прекрасное рассуждение: "Сердце -- самое совершенное, что есть в человеческом теле, и, стало быть, место, которое оно выбрало для себя, -- тоже самое совершенное!" Ну так согласитесь, что этот чудесный залив и есть сердце Средиземного моря. Сердце из золота и синевы, которое бьется гулко и трепетно.
Я просто наслаждаюсь дугой Залива от Позилиппо до Соренто, я испытываю то тихое удовольствие, с каким обычно поглаживаю округлые плоды. Прежде моей душе ничего не говорила дуга, как понятие геометрическое. А вот теперь я ее полюбила, потому что она наполнилась жизнью. Ее обрисовывает белая пенистая кромка, а синева насыщает, уводя в бесконечность.
Мои глаза пьют и пьют глубокую синеву, не замечая других красок, они покоятся в этой синеве, как подрумяненный пирожок в нежном масле.
Неаполитанский залив... Какая неизбывная услада!
И вместе с запахами, это ласковое покачивание. Нет нигде столь живой и подвижной воды, она то и дело взмахивает тысячами тысяч золотистых ресниц. Волны неспешно подбегают к берегу с веселой грацией -- небольшие, округлые, без резких взмахов, без натиска... Это почти человеческое подношение нежности, тихая самоотдача. Я воспринимаю Неаполитанский залив, как великий дар, и грущу, что его безграничная щедрость выпала мне лишь на короткий миг.