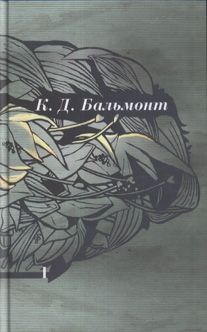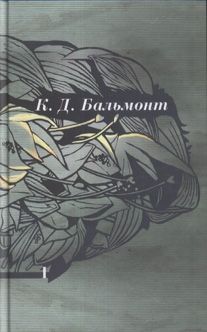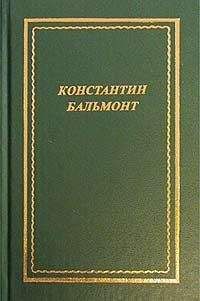Константин Бальмонт - Том 4. Стихотворения
Три терема
Три терема были у нас златоверхие,
В одном расцвечается Солнце багряное,
В другом зазеркалился Месяц серебряный,
По третьему зерна из звезд.
Где легкия санки с полозьями звонкими?
Куда с колокольчиком скрылись бубенчики?
До этого царства дорога обрывная,
И гулкий обрушился мост.
Один только путь сохранен необманчивый,
Смотреть по-орлиному в Солнце багряное,
Смотреть по-русалочьи в Месяц серебряный,
Молиться к звезде в вышине.
Тогда оживляются берег и озеро,
Все гулкое Море цветет синецветами,
И ты, златовенчан, проходишь три терема,
В обрызганном сказками сне.
Храню я три терема, те златоверхие,
Вот гость на крыльце, с огневыми зеницами,
В руках его бубен, как Месяц восполненный,
Вкруг бубна – из звезд бубенцы.
Велит мне брататься с цветами и птицами,
Венчаться велит полевым колокольчиком,
Надречных набрать златоцветных бубенчиков
И бросить во все их концы.
Семизвездие
Вещательно-веская сила есть в числах,
В них много для нас говорящих примет.
Так в мощных клыках мастодонта обвислых
Тревожно читаем мы тысячи лет.
Тринадцать – то лунная месяцев смена,
Двенадцать – юнейший – есть солнечный счет.
Все числа нам повесть и волны и пена,
По числам вся жизнь круговая течет.
И как бы не знали велений скрижали
И Море и Звезды и Солнце с Луной, –
Когда семицветно лучи заиграли,
Пред тем как возникнуть – Державой одной?
И как бы не знала Верховная Чаша
Всех капель кипящих – в ней – силы живой?
В псалме числовом их – симфония наша,
В их взрывах – нам буря, магнит вихревой.
Не все в письменах мы прочтем достоверно,
Не только здесь блески, – и смутная темь.
Мне светит, в своем начертаньи размерно,
На Северном небе горящее семь.
Издревле свирель семикратно напевна,
Звучит в ней – с созвездий пришедший к нам звон.
И то, что неделя в веках семидневна,
Не прихоть – целительно-верный закон.
Чтоб дух не обуглился в зодческом зное,
Шесть творческих взмахов – и отдых, седьмой.
Об этом гласит нам созвездье родное
Всего лучезарнее – белой зимой.
Пять чувств – хоровод. У поэта шестое
Есть творчество памяти в видящем сне.
Седьмое же в царство ведет золотое,
К цветку голубому в творимой стране.
Бывают минуты, – я вижу все звенья,
Я помню все путы несчетных темниц.
И как я разбил их стезей воплощенья
И новой дороги до новых станиц.
От часа додневья, от лика медузы,
В себя восприявшей лазоревый крест,
Я ведал восторги и сбрасывал узы,
Я принял все жертвы столетий и мест.
И разве я не был змеей семиглавой,
Как воды горели и воздух был рдян?
Я мыслю об этой поре величавой,
Когда мне приливный гудит Океан.
И разве не стал я малиновкой серой,
Явившей, что сердце ея из огня?
Цепь ликов прошел я – и полною мерой
И поступью тигра – и ступью коня.
Откуда бы взял я всю редкостность клада
Несчитанной страсти ко всем существам?
Все было мне нужно. И вот еще надо
Иной камнеломни, чтоб выстроить храм.
Когда упадают дремотно ресницы
И я в многозоркую ночь ухожу.
Поют и поют голубыя мне птицы,
Что новую нужно пробить мне межу.
Донная трава
Сребролунный горит подоконник,
Говорит хрусталями окно.
Благовонный качается донник,
Сновидение манит на дно.
Хороши удлиненный кисти,
Голубыми качает один.
А другой, легковейно-душистей,
Как кропило дремотных куртин.
Новолуннею полночью сонной
Их кадильницы знают свой срок.
С их пахучим дыханьем созвонный,
Шевелит их кусты ветерок.
Доглядеть бы всю тайну их взгляда,
Додышать бы цветочную кровь,
Досказать бы созвездьям – что надо,
Чтоб приснилось желанное вновь.
Додремать все томленье разлуки,
Чтобы любящий вновь был любим,
И дождаться, чтоб милыя руки
Дотянулись объятьем своим.
Потянул ветерок по деревьям,
Переметны шуршанья в ветвях,
К оснеженным безвестным кочевьям
Заскользил я в проворных санях.
Парусами – вздуваются тучи,
Как ладьи – сгроможденья снегов.
И лучи упадают, певучи,
На зубчатыя кровли домов.
От семи легконогих оленей
Под Луной поднимается пар.
Я доехал. Раскрытый сени.
Вот он, звон наливаемых чар.
«Заждались», говорят. «Не впервые.
Никогда не торопишься к нам».
И поют мне глаза голубые,
Что конец здесь тоске и ветрам.
Мы пируем в высоком чертоге,
Наливаем мы Солнце в хрусталь.
А Луна, закрепись на пороге,
Серебрит океанскую даль.
Всезавладевающая
Не стукнет, не брякнет, а угол темней.
И видно, по спуску немых ступеней,
Что час наступает продольных теней.
Не скажет, не спросит, а слышится вздох.
Росой зазвездился сереющий мох.
И явственен в сердце глаголящий Бог.
Густеет влиянье таинственных сил.
В душе колебанье незримых кадил.
И путь свой крылом козодой зачертил.
Померк доснявший узорный балкон.
В селе отдаленном смолкающий звон.
Глубокою синью налит небосклон.
За садом белеет прохладою луг.
Дневныя свершенья – законченный круг.
На небе мерцание гроздий и дуг.
Так скоро за первой Вечерней Звездой
Верховные кони сверкнули уздой,
И Серп Новолунний взошел над водой.
Ладьей отразился в зеркальном пруду.
Все стройно и цельно в своем череду.
В осоке шуршанье, в ней ветер в бреду.
В ней старыя мысли проснулись опять.
Змеиные стебли никак не унять,
И возле шуршащих зазыбилась гладь.
Прямится змеиный – не выпрямлен рост.
А тихая поступь умноженных звезд
Уж Млечный повсюду обрызгала мост.
Кто хочет, пусть дремлет. Кто может, пророчь.
Лавинная мгла залила узорочь.
Всемирно мерцает безгласная Ночь.
Колыбельная
Я всегда убаюкан колыбельною песней,
Перед тем как в ночи утонуть,
Где, чем дальше от яви, тем странней и чудесней
Открывается сказочный путь.
В дни как был я ребенком, это голос был няни,
Уводивший меня в темноту,
Где цветы собирал я для певучих сказаний,
Их и ныне в венок я сплету.
В дни как юношей был я, мне родныя деревья
Напевали шуршаньем вершин,
И во сне уходил я в неземныя кочевья,
Где любимый я был властелин.
А поздней и позднее все грозней преступленья
Завивали свой узел кругом.
Но слагала надежда колыбельное пенье
И журчала во мне родником.
И не знаю, как это совершилось так скоро,
Что десятки я лет обогнул.
Но всегда пред дремотой слышу пение хора,
Голосов предвещающих гул.
А теперь, как родная так далеко Светлана,
И на чуждом живу берегу,
Я всегда засыпаю под напев Океана,
Но в ночи – на родном я лугу.
Я иду по безмерным распростертым просторам,
И, как ветер вокруг корабля,
Возвещают мне реки, приближаясь к озерам,
Что бессмертна Родная Земля.
А безмерная близко расплескалась громада,
И всезвездный поет небосвод,
Что ниспосланный путь мой весь измерить мне надо
И Светлана меня позовет.
Мать
Птицебыстрая, как я,
И еще быстрее.
В ней был вспевный звон ручья
И всегда затея.
Чуть ушла в расцветный сад,
С нею я ребенок,
Вот уж в дом пришла назад,
Целый дом ей звонок.
Утром, чуть в лугах светло,
Мне еще так спится,
А она, вскочив в седло,
На коне умчится.
Бродят светы по заре,
Чада ночи древней.
Топот брызнул на дворе,
Он уж за деревней.
Сонной грезой счастье длю,
Чуть дрожат ресницы.
«Ах, как маму я люблю,
Сад наш – сад Жар-Птицы!»
Долгий, краткий ли тот срок,
Сны всегда – обновы,
А к крыльцу уж – цок-цок-цок,
Скок и цок подковы.
Вся разметана, свежа,
Все в ней – воскресенье.
Разве только у стрижа
Столько нетерпенья.
«Ты куда же в эту рань,
Мама, уезжала?»
В губы чмок, – и мне, как дань,
Ландышей немало.
«Ну, скорее день встречай»,
Я бегу веселый.
Как хорош душистый чай,
На сирени пчелы.
Мать веселия полна,
Шутками прекрасна.
С ней всегда была – весна
Для зимы опасна.
Только вздумаешь взгрустнуть, –
У нея лекарство –
Мысль послать в лучистый путь,
В радостное царство,
«Ты чего там приуныл?
Морщить лоб свой рано».
И смеется, смех тот мил,
Плещет фортепьяно.
Знал я в ранних тех мечтах,
Как без слов любовен
Храмовой ручьистый Бах,
Вещий дуб, Бетховен
Как возносит в высоту,
Уводя из плена,
Шуман, нежащий мечту,
Лунный взлет Шопена.
Как пленительно тонуть
В Моцарте и Глюке.
И обнять кого-нибудь
Странно жаждут руки.
Как в родную старину
Мчит певучий Глинка.
С ними к творческому сну
Льну и я, былинка.
Сладко в память заглянуть,
В глубь такой криницы,
Где подводный виден путь
К сказке Царь-Девицы.
Так предвидя, угадать
Сказ о дивном зельи
В жизни может только мать,
Мудрая в весельи.
И поздней, как дни, созрев,
Меньше дали света,
Превращать тоску в напев
Кто учил поэта?
Был иным я утолен,
Знал иныя жажды,
Но такой лучистый сон
Снится лишь однажды.
Отец