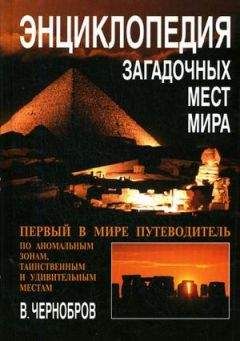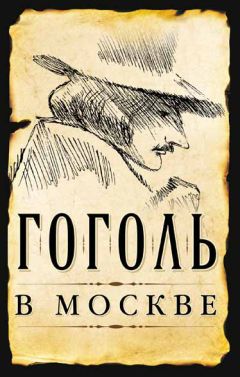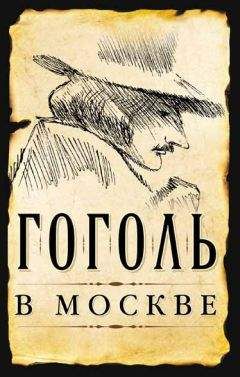Алексей Недогонов - Дорога моей земли
22 июня 1941 года
Роса еще дремала на лафете,
когда под громом дрогнул Измаил:
трубач полка —
у штаба —
на рассвете
в холодный горн тревогу затрубил.
Набата звук,
кинжальный, резкий, плотный,
летел к Одессе,
за Троянов вал,
как будто он не гарнизон пехотный,
а всю Россию к бою поднимал!
1941 г.
«Нет, нас на колени вандалов орда не склонит…»
Нет,
нас на колени вандалов орда
не склонит,
чтоб вечно глумиться над нами.
Становимся мы на колени тогда,
когда, отстояв от врагов города,
целуем
родное гвардейское знамя!
21 августа 1941 г.
Предсказание
Усталая,
но гордая осанка.
И узелок дорожный за спиной.
Гадала мне гречанка-сербиянка
в Саратове на пристани речной.
Позвякивали бедные мониста
на запыленном рубище ее.
Она лгала.
Но выходило чисто.
Я слушал про свое житье-бытье.
И делал вид, что понимаю много,
хотя она мне верила с трудом.
тут было все:
и дальняя дорога,
и беспокойство,
и казенный дом,
тут были встречи,
слезы и свиданья,
и радости, и горечь женских мук —
все,
без чего немыслимо гаданье
в такие дни на пристанях разлук.
Во всем я видел правды очень мало.
Что слезы — ложь,
что встречи — соврала,
а то, что буду жив, —
она узнала,
и, что домой вернусь, —
права была.
Саратов, осень 1941 г.
Письмо
Когда ты девочкой была,
я знал тебя по памяти.
И ты в душе моей жила —
в моей охранной грамоте.
Ты сном была в моей судьбе.
И это ли нелепости,
что я хранил тебя в себе,
как в осажденной крепости?
И я, поверь мне, никому
ни капли не завидовал —
тому, кто лгал тебе,
тому,
кто удочки закидывал.
Я слепо верил: ты моя…
(Мне больше ль было надобно?)
Так верят в песню соловья,
когда она предсвадебна.
В часы вечернего тепла
я шел к тебе сумерничать,
и ты, звезда моя, могла
с мечтой моей соперничать.
В пределах счастья двух имен
в тебя — обмолвлюсь запросто —
я без оглядки был влюблен,
как мальчик, просто-напросто.
И, полюбив твои черты,
я ни на что не сетовал.
Я так любил тебя, что ты
не замечала этого.
И вот сейчас, когда война
меня бросает в стороны,
когда знакомых имена
в когтях уносят вороны,
я часто думаю над тем,
что, не родившись заново,
нам суждено домой не всем
вернуться с поля бранного.
Не всем нам видеть жен своих,
не всем прийти с победою.
А я в кругу друзей живых
о смерти не беседую.
Я верю: вынесу войну,
сто ран приму, но выстою.
Себя верну, любовь верну,
и щедрую, и чистую —
такую щедрую, что в ней
не думал об измене я,
такую чистую, что ей
лишь только ты — сравнение!
1941 г.
Тепло
Погода
не сыра
и не простудна.
Она, как жизнь,
вошла и в кровь,
и в плоть.
Стоял такой мороз,
что было трудно
штыком буханку хлеба расколоть.
Кто был на фронте,
тот видал не раз,
как следом за трассирующим блеском —
В знобящей мгле над мрачным перелеском —
летел щегол,
от счастья пучеглаз.
Что нужно птице, пуле вслед летящей?
Тепла на миг?
Ей нужен прочный кров.
А мне довольно пары теплых слов,
чтобы согреться в стуже леденящей.
1941 г.
Пулеметчик
Зима состояла из мелочей:
снегá,
морозы,
и ветер лют.
Одиннадцать дней и десять ночей,
ровно пятнадцать тысяч минут,
порою сутками напролет
молнией
полосовал
по врагу
русский станковый пулемет
под Миллерово в снегу.
Выбиваясь на третьей ленте из сил
рокотал с перебоями, но потом
у пулеметчика пить просил
своим воробьиным
жестоким ртом.
Человек болел за него душой:
нет воды. Хоть умри.
И вот
пулеметчик стрелков берет в оборот —
и фляга, наполненная мочой,
поит станковый пулемет.
Так он насмерть боролся тут.
Так он работал в порядке вещей
ровно пятнадцать тысяч минут,
одиннадцать дней и десять ночей,
под вьюгой.
И каждые полчаса
человек продвигал пулемет вперед
на один
мучительный
оборот
пулеметного
колеса.
Он продирался
к норам чужим,
огнем гарнизон
сжимал
в тиски:
то, что под силу
было троим —
адово дело, —
ему с руки!
Он знал —
весною шуметь ветрам,
лететь журавлям,
тополям цвести,
ходить через Милллерово поездам,
по утрам
пионерам в школу идти.
И когда он встал,
и ушанку снял,
и капли пота смахнул со лба, —
увидел — немцы,
услышал — пальба
отхлынули за арсенал…
Был он совсем молодой лицом,
но как-то по-взрослому молодой;
за пулемет
он прилег юнцом,
поднялся мужчиною с бородой.
И тогда
ему показалось вдруг,
что он уже
самый старый солдат
и что землю,
которую взял, назад
не выпустит
из огрубевших рук.
Богучар, декабрь 1942 г.
Сестре Валентине
Не обижайся. Ведь само
письмо на родину не пишется.
Я б написал тебе письмо,
да что-то снова пушки слышатся.
Мгновенья малого в бою
себе не выкрою по выбору;
я здесь по горло устаю
и — веришь — времени не выберу.
То переходы, то бои,
то отступленье это чертово,
то непросохшие слои
блокнота моего потертого.
А тут еще снега с дождем.
От ППС — тропа завьюжена…
От вас мы тоже писем ждем,
как дети — праздничного ужина,
который близок и далек,
как в зимний день ночлег для странника,
как тусклый звездный огонек,
как запах вяземского пряника.
Тревог немало в наши дни.
И все догадки о превратностях
в семействе маленьком — одни,
по меньшей мере, неприятности.
Пиши. И жди меня в ответ.
И верь, что наша встреча сбудется.
А то, что писем долго нет,
так тут виной всему распутица.
Район Изюма, 1943 г.
Ковры
Прошедшее — в миражной дымке.
Оно глядит, как свет из мглы.
Я помню домик караимки
за Симеизом у скалы.
С ее богатством лишь природа
соперничала при луне:
ковры у выхода, у входа,
и у стола, и на стене.
Движеньем рук своих проворных
она по праву ремесла
все краски ночи, кроме черной,
на полотно перенесла.
Искусство цвета!
Ну и рад же
был каждый, кто входил к ней в дом…
Ковры такие магарадже
и то приснились бы с трудом!..
Я помню знойный ветер лета.
Ее у взморья помню я.
Косички пепельного цвета
сбегали с плеч, как два ручья.
Как будто сотканный из гула,
из всех цветов морской волны,
от Симеиза до Стамбула
лежал прямой ковер луны.
Хотелось быть в тот вечер юным,
тоску оставить взаперти
и по ковру при свете лунном
с подругой об руку пройти…
Волна в закатный рог трубила.
А в сумраке вечеровом —
тропинка в горы…
Это было
в сороковом, в сороковом.
И вдруг в обычный час заката
над головой — чужой мотор.
Подошва прусского солдата
ступила на ее ковер.
Напрасно лунный луч резвился.
Ночь тяжела. Волна тускла.
Весь мир ее с тех пор вместился
в квадрат оконного стекла.
С тех пор в тоске, в печали томной,
поправ законы ремесла,
она всю горечь ночи темной
на полотно перенесла.
Но в этом горестном смещенье
цветов,
возникших в темноте,
играла искра возвращенья
к первоначальной красоте.
1943 г.
Сказка о вóроне