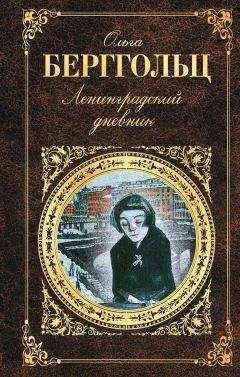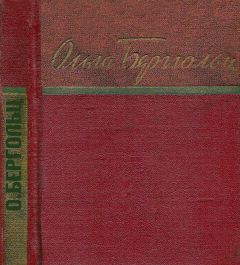Ольга Берггольц - Ольга. Запретный дневник
Сейчас я в Доме творчества, в Детском[34]. В этом доме я дважды умирала: первый раз, когда пришла просить у Толстого[35] машину, чтоб увезти Ирку в больницу. Я сказала Толстой[36]: «Моя дочь умирает, дайте мне машину» — и поняла, что она действительно умирает… Со смертью ее началась моя смерть, тем более что Я, я виновата в смерти Ирочки. И весь мир стал смертен.
Второй раз из этого дома — меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть — смерть «общей идеи» во мне. Я не живу; я живу вспышками, путем непрестанных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то: и за работу, и за пижаму, но это непрестанное бегство от самой себя.
Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т. к. я слишком слаба, чтоб таскать все это в самой себе, но чем, чем они мне могут помочь? Какую новую опору дадут они мне?
Я круглый лишенец[37]. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее… «Как и жить и плакать без тебя?!»[38]
Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идет по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилен. У меня отнята даже возможность «обмена света и добра» с людьми. Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей, — хотя бы книжка стихов, хотя бы Первороссийск. Мне скажут — так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что «у нас не как всегда»…
Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!
Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «всё объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу — но нет… Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего. Вот в чем разница… В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего — от государства.
Я все ругаю себя разными словами — «маловерие», «пороху не хватило», «испугалась трудностей», — но нет! Не трудностей я боюсь, а лжи, удушающей лжи, которая ползет из всех пор…
Что же может тут сделать психоневролог? Одурить меня процедурами так, чтоб ложь эта, и гибель идеалов, и ужасный процесс перерождения стал мне безразличен? Но это последняя смерть, и уже настоящая… Лучше мучительное это безвременье, лучше горький этот кризис, буду думать, что кризис, и буду бесстрашно идти на него…
1/IV-41
Может быть, мне просто нравится так страдать, нравится эта тога «гражданской скорби»? Я просто нравлюсь себе в ней? Но разве я одна так терзаюсь? Все, кого я знаю, особенно коммунисты — Галка[39], Ирэна[40], Мара[41], — живут с таким же трудом, как я. Вчера цензура сняла из верстки «Лит. современника» мое стихотворение «Тост». Оно кончалось:
Так выше бокал новогодний,
Наш первый поднимем смелей
За тех, кто не с нами сегодня,
За всех запоздавших друзей…
Очень корявое, оно было дорого мне по внутренней своей мысли — хоть слабый сигнал «им»: «мы помним о вас, мы ждем вас», хоть слабый знак привета. Они — т. е. цензора — догадались. Но формально это причина — «за тех, кто не с нами, — значит, за тех, кто против нас? Значит, за наших врагов?» Суки! Они не имеют права запрещать, — здесь нет ни малейших формальных оснований. Хорошо, я напишу: «за тех, кто далеко сегодня…», и если он (Троицкий[42]) опять зарежет, — полезу на рожон вплоть до горкома. Буду говорить о «травле писателя-коммуниста», о том, что Троицкий не имеет права «пересматривать решение гос. органов в отношении меня…».
С трусами и двурушниками надо говорить на их языке, и — главное — никаких формальных оснований для трактовки моих стихов так, как это трактует цензура, нет. Они не смеют ставить мои стихи в связь с моим пребыванием в тюрьме! Ведь же «открытые» стихи о тюрьме я и не показываю никому. Я вся разворошена этим. Это запрещение — точь-в-точь как лязг тюремного ключа там, напоминание о том, что ты — невольник.
Лязгнуло… И вот от этого лязгнувшего звука опять вышла из равновесия, опять впереди — бесперспективность, тьма…
Надо закончить эту муру — «Ваня и поганка», она даст мне наконец возможность вплотную сесть за роман, а может быть (страшно мечтаю об этом), — съездить на Алтай, по маршруту первороссиян, — м. б., буду писать о них повесть.
Написала стихотворение, которого сама боюсь[43].
13/IV-41
Вот я и опять в Ленинграде. Да и давно уже, седьмого числа. Может быть, все-таки обратиться к психоневрологу?
Вот, отправлен сценарий, денег есть еще на два месяца, даже если еще тысячу истрачу, надо браться за роман, и вдруг меня одолел страх: мне кажется, что я уже ничего не могу, душевные силы иссякли, да и просто так — трясучка, мерзейшая трясучка одолевает…
Все вроде как куда спешу, все вроде как страх одолевает, невнятный, глупый. Или это все та же утрата общей идеи дает себя знать? Но Коля дал верный совет: писать «без идеи», записывать, как жили, и идея возникнет. Да, писать — вот так мы жили, вот так мечтали, страдали, радовались, отдавали себя. И… ну, — и? И? «И ничего не вышло; они все передрались, ничего не нашли и вернулись обратно», — как сказал один мальчик в ответ на предложенный мною сюжет, как дети отправились искать живую воду. Нет, нет; так рано еще говорить, не надо так думать! Может быть, еще и выйдет. Может быть, этот тяжелый период пройдет, там вздохнем, после войны.
Все-таки пока не воюем, и за то правительству спасибо. Будем верны знаменам. С верностью знаменам и писать. Но высылка Ирэны? Ведь ее все ж таки высылают, доламывают ее жизнь, доканывают прекрасного, верного человека, ничто, ничто не помогло ей, никакие хлопоты, никакие заступничества… Зачем? Разве это хоть кому-нибудь нужно?
Нет! Как только я прикасаюсь к вопросам этого круга, так перестаю дышать.
20/IV-41
Явная дегенерация: куда-то засунула записную книжечку с телефонами Москвы и не могу найти, а отлично помню, что еще вчера держала ее в руках и даже думала: «кладу сюда — и забуду…» Вот глупо.
Колька как долго не идет от Молчановых, наверное, сердится на меня за то, что пришла вчера от Анфисы пьяная. А когда он так пыжится, я совершенно теряю способности к деятельности и жизни.
У меня — серия подозрительных удач. Принят сценарий «Ваня и поганка», говорят, что очень там всем понравился, еду завтра по вызову «Мосфильма» в Москву для доработки сценария. Получу, видимо, вторые 25 % и затем, довольно быстро, остальные 50.
Но главное — на «Ленфильме» вдруг зажгла «Первороссийском» Мессер[44] и Кару[45], завтра они посылают либретто в комитет с просьбой разрешить заключить со мной договор. Конечно, мне надо располагаться на то, что либретто утверждено не будет и придется посылать его Сталину… Но оно все равно пойдет через Ц. К., так что инстанций, где его могут задержать, — очень много.
Вероятностей, что сценарий будет убит, — больше, чем того, что он пройдет. Но хорошо хоть то, что хоть где-то пробита стенка. Ах, как славно было бы, если б получилась к юбилею картина! Это был бы мой подарок к 25-летию Советской власти, дар нашим знаменам, нашей Мечте, нашим идеалам — храму оставленному и кумиру поверженному[46], которые еще драгоценней именно потому, что они оставлены и повержены. Не нами, о, не нами!
Но неужели действительно оставлены и повержены?
Не перехватываю ли я в этом отношении?.. Может быть, это только такой временный жуткий период?
Успехи немцев подавляют меня. Падение — Югославии, на днях несомненное падение Греции.
Неужели прожить и умереть при торжестве фашистского режима?! Страшно, жалко!..
Кроме того, завтра, наверное, будет разговор у Герасимова [47] относительно заключения предварительного договора на «Заставу»[48]. Вообще, благоразумнее не замечать.
5/V-41
Идут очень пустые, нерабочие и даже безмысленные дни. Была в Москве по вызову «Мосфильма» насчет «Вани и поганки». У «Вани и поганки» — огромный успех. Птушко[49], шумный и неумный пошляк в быту, в восторге, рвется ставить, все хвалят, сценарий едет пока без задержки. Это почти оскорбляет меня, потому что «Первороссийск» уже зарезан в кинокомитете на первой же инстанции. («Ленфильм» послал с просьбой о разреш.) Некто Маневич сказал: «Слишком огненная тема. Она на острие — так остра. Политически неверно ставить картину о коммуне, в то время как коммуна — осужденная форма сельского хозяйства. Т. Сталин на XVII съезде осудил ее», — и т. д.