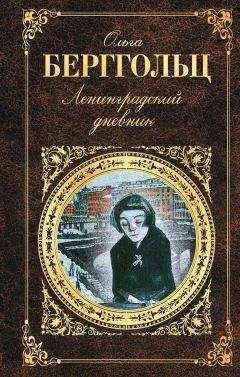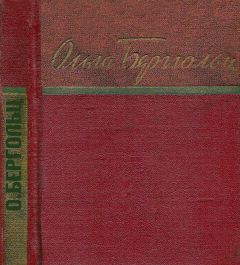Ольга Берггольц - Ольга. Запретный дневник
25/XII-39
Вчера читала материалы газетные о Сталине. Очень гнусная статья П. Тычины[9] в «Литературной газете». А мой этот самый стишок там отказались печатать. Очевидно, как пояснил Володя Л.[10], — тоже не принявший стишка, — «не масштабно, не соответствует величию Сталина». Вот как раз и соответствует величию, еще большему, может быть, чем реальное величие, — величию людского представления о нем.
И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей, это даже тогда, когда я начала думать, что «он все знает», что это «его вина», — я не позволяла себе отнимать у людей эту единственную надежду. Впрочем, как ни дико, я сама до сих пор не уверена, что «все знает», а чаще думаю, что он «не все знает». И вот начала письмо с тем, чтобы написать ему о М. Рымшан, Плотниковой, Ивановой, Абрамовой, Женьке Шабурашвили, — это честные, преданные люди, глубоко любящие его, а до сих пор — в тюрьме. И когда подошла к этому разделу — потухла, что ли. Додик писал Сталину о своем брате, о том, как его пытали, — ответа не получил. Рымшан писал тому же Сталину о своей жене — ответа не получил. Помощи не получил. Ну, для чего же писать мне? Утешить самое себя сознанием своего благородства?
Потому что мысль о том, что я не написала до сих пор Сталину, мучит меня, как содеянная подлость, как соучастие в преступлении… Но я знаю — это бесполезно. Я имею массу примеров, когда люди тыкались во все места, и вплоть до Сталина, а «оно» шло само по себе — «идёть, идёть и придёть».
В общем, «псих ненормальный, не забывай, что ты в тюрьме…».
Боже мой! Лечиться, что ли? Ведь скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во сне… Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь…
25/I-40
…Машу Рымшан осудили на 5 лет… Все статьи сняли, осудили как «социально опасную». Это человек, отдавший всю жизнь партии. Мотивировок к осуждению нет даже юридически сколько-нибудь основательных. Произвол, беззаконие, и всё.
О, как подло.
Даже тот факт, что продолжают выпускать людей, не может снизить, убавить подлости осуждения Маши и ей подобных. Тем более должны были освободить. Не вся правда хуже, чем неправда. Не вся правда — двойной обман.
«Нами человечество протрезвляется, мы — его похмелье, мы — его боль родов», — писал Герцен[11] в 1848 г. Может быть, время поставить под этими словами сегодняшнюю дату? Какой-то маленький светлый кусочек внутри, остаток безмерной веры — «Клочок рассвета мешает мне сделать это? Или трусость? Или инстинкт самосохранения?».
1/III-40
…Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX веку. О, как они были свободны. Как широки и чисты!
А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «Это будет читать следователь» преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комиссар Гоглидзе[12] искал за словами о Кирове[13], полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло.
А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!
Так и видно, как выкапывали «материал» для идиотских и позорных обвинений.
И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — «для следователя» — или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя…
О, позор, позор, позор!.. И мне, и тебе! Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было…
Писать свое — пьесу, рассказы…
Не думать, не думать об этом хотя бы пока… Все равно никуда не уйдешь от этих мыслей…
25/XII-40
Сегодня в клубе Эренбург[14], живший во Франции, в Париже — в дни его и ее разгрома, читал отрывки из романа «Падение Парижа» и стихи.
Отрывки — до жалости плохи и равнодушны. Стихи академичны, полумертвы (чем-то похожи на мои), но есть хорошие, с настоящей болью.
Я тихо и бесстрастно ужасалась: как далеко может идти профессионализм, что человек может СЕЙЧАС писать о разгроме франции! Это так же дико, как если б художник, рисуя увечного, пытался приклеить на картину куски живого мяса. Но даже это не удалось ему: рассудочный сентиментализм. Нехорошо.
На вечер пришли Таня и Юра Прендели[15], Таня мне — все равно, а Юра занимает, и даже специфически. Уже некоторое время идет подводная игра, которая может окончиться бурным объятьем, если я того пожелаю.
Но я, по всем данным, не пожелаю этого. Юра — «не наш». Кроме того, меня раздражает его ущемленность по отношению ко мне и Кольке; в этом какая-то неискренность, искусственность отношения. Короче, они были там, и я отправила их домой, а сама навязалась на столик к Германам, жестоко презирая себя за это. Тем более, что Юра Г.[16] написал беспринципную, омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском[17].
Он спекулянт, он деляга, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо. Мне надо было сказать ему это, а не втираться к нему на столик.
Потом подсел Зонин[18] с пошлым ухажерством, это было на глазах у Юрки, мне было неудобно, хотя и мелко-лестно (чего мне надо и на что я надеюсь?!), и на вопрос Зонина я ответила, что да, читала его книгу и она мне очень понравилась, но книжки я почти не читала, только начало.
Потом я провожала Зонина до места его ночевки, были обрывки серьезного разговора (ох, сяду я за них, ни за что сяду!) и пошлого флирта на словах…
Все, что сберечь мне удалось,
Надежды веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи![19]
Зачем этот размен?! Это чисто внешне, души я ничуть не отдаю, но, м. б., и отдаю, и теряю.
Вот с Лидой Ч<уковской>[20] сегодня был хороший разговор. И я постараюсь написать для хрестоматии хорошие рассказики.
Безвременье души, — вообще.
Была в Москве. Встречалась с Сережей[21]. Это ничего не принесло на этот раз, кроме опустошения и тупой боли. Очевидно, потому что он меня вовсе не любит, даже не влюблен, а просто так.
13/III-41
Иудушка Головлев[22] говорит накануне своего конца: «Но куда же всё делось? Где всё?»
Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно проваливается, в чем исчезает и, главное, — зачем, зачем?!
Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова[23], — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки[24].
Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.
Борис в концлагере, а может быть, погиб.
Превосходное стихотворение «Соловьиха» было посвящено им Зинаиде Райх[25], он читал его у Мейерхольда[26]. Мейерхольд, гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме. Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек.
Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть…
На бездарном «Дон-Кихоте» в Александринке видела сегодня Виктора Яблонского[27], с которым связано ощущение целого периода в жизни — знакомство с Горьким[28], ЛАПП, история с Авербахом[29]. Горький умер. Л. Авербах расстрелян. Миша Чумандрин[30] погиб на финской войне. Володя Эрлих[31] в концлагере. Юрий Либединский[32] разошелся с Муськой. Виктор очень постарел, — значит, и я так же страшно постарела…
Где всё?! Где всё?..
А Ирка, Ирка, господи… А эпилепсия Коли с 32 года? Где всё и зачем всё? И что же вместо того, что было когда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безусловного доверия к жизни и людям… Сколько силы было, веры, бесстрашия. Была Ирка, был здоровый Коля, было ощущение неисчерпанности, бесконечности жизни, была нерушимая убежденность в деле, в правильности всего, что делал… Где же, где всё?
26/III-41
Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. Это громадное достижение. Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела. Все мысли и чувства ленивы и притуплены, все равно. Нет, еще рановато для маразма. Еще я должна написать роман, и выпустить хорошую книгу стихов, и увидеть на экране свой «Первороссийск»[33], а потом уж пускай.