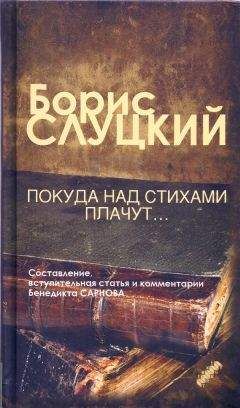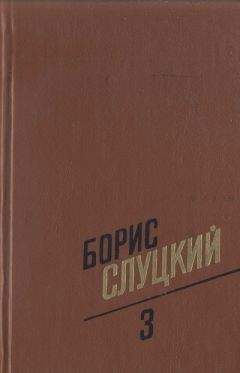Борис Слуцкий - Лошади в океане
Сбрасывая силу страха
Силу тяготения земли
первыми открыли пехотинцы, —
поняли, нашли, изобрели,
а Ньютон позднее подкатился.
Как он мог, оторванный от практики,
кабинетный деятель, понять
первое из требований тактики:
что солдата надобно поднять.
Что солдат, который страхом мается,
ужасом, как будто животом,
в землю всей душой своей вжимается,
должен всей душой забыть о том.
Должен эту силу, силу страха,
ту, что силы все его берет,
сбросить, словно грязную рубаху.
Встать.
Вскричать «ура».
Шагнуть вперед.
Политрук
Словно именно я был такая-то мать,
Всех всегда посылали ко мне.
Я обязан был все до конца понимать
В этой сложной и длинной войне.
То я письма писал,
То я души спасал,
То трофеи считал,
То газеты читал.
Я военно-неграмотным был. Я не знал
В октябре сорок первого года,
Что войну я, по правилам, всю проиграл
И стоит поражение у входа.
Я не знал,
И я верил: победа придет.
И хоть шел я назад,
Но кричал я: «Вперед!»
Не умел воевать, но умел я вставать,
Отрывать гимнастерку от глины
И солдат за собой поднимать
Ради Родины и дисциплины.
Хоть ругали меня,
Но бросались за мной.
Это было
Моей персональной войной.
Так от Польши до Волги дорогой огня
Я прошел. И от Волги до Польши.
И я верил, что Сталин похож на меня,
Только лучше, умнее и больше.
Комиссаром тогда меня звали.
Попом
Не тогда меня звали,
А звали потом.
Немка
Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.
— Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.
Наведу им тень на плетень.
Не пойду. — Так сказала в тот день
в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,
в просторечии немка; она
подлежала тогда выселенью.
Все немецкое населенье
выселялось. Что делать, война.
Поначалу все же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:
— Не пойду! (с немецким упрямством)
Пусть меня волокут тягачом!
Никуда! Никогда! Нипочем!
Между тем, надежно упрятан
в клубы дыма,
Казанский вокзал
как насос высасывал лишних
из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.
Это все исполнялось прытко.
И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.
А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.
Но, застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.
Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали — умерла.
— В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.
Как с подножки, спрыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на толчке продавала
и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне.
Дабы
в этой были не усумнились,
за портретом мужским хранились
документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.
Я его в руках повертел:
об угонах и о погонях ничего.
Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.
Казахи под Можайском
С непривычки трудно на фронте,
А казаху трудно вдвойне:
С непривычки ко взводу, к роте,
К танку, к пушке, ко всей войне.
Шли машины, теснились моторы,
А казахи знали просторы,
И отары, и тишь, и степь.
А война полыхала домной,
Грохотала, как цех огромный,
Била, как железная цепь.
Но врожденное чувство чести
Удержало казахов на месте.
В Подмосковье в большую пургу
Не сдавали рубеж врагу.
Постепенно привыкли к стали,
К громыханию и к огню.
Пастухи металлистами стали.
Становились семь раз на дню.
Постепенно привыкли к грохоту
Просоводы и чабаны.
Приросли к океанскому рокоту
Той Великой и Громкой войны.
Механизмы ее освоили
Степные, южные воины,
А достоинство и джигитство
Принесли в снега и леса,
Где тогда громыхала битва,
Огнедышащая полоса.
Высвобождение
За маленькие подвиги даются
медали небольшой величины.
В ушах моих разрывы отдаются.
Глаза мои пургой заметены.
Я кашу съел. Была большая миска.
Я водки выпил. Мало: сотню грамм.
Кругом зима. Шоссе идет до Минска.
Лежу и слушаю вороний грай.
Здесь, в зоне автоматного огня,
когда до немца метров сто осталось,
выкапывает из меня усталость,
выскакивает робость из меня.
Высвобождает фронт от всех забот,
выталкивает маленькие беды.
Лежу в снегу, как маленький завод,
производящий скорую победу.
Теперь сниму и выколочу валенки,
поставлю к печке и часок сосну.
И будет сниться только про войну.
Сегодняшний окончен подвиг маленький.
Ранен
Словно хлопнули по плечу
Стопудовой горячей лапой.
Я внезапно наземь лечу,
Неожиданно тихий, слабый.
Убегает стрелковая цепь,
Словно солнце уходит на запад.
Остается сожженная степь,
Я
и крови горячей запах.
Я снимаю с себя наган —
На боку носить не сумею.
И ремень, как большой гайтан,
Одеваю себе на шею!
И — от солнца ползу на восток,
Приминая степные травы.
А за мной ползет кровавый
След.
Дымящийся и густой.
В этот раз, в этот первый раз
Я еще уползу к востоку
От германцев, от высших рас.
Буду пить в лазарете настойку,
Буду сводку читать, буду есть
Суп-бульон, с петрушкой для запаха.
Буду думать про долг, про честь.
Я еще доползу до запада.
Лес за госпиталем
Я был ходячим. Мне было лучше,
чем лежачим. Мне было проще.
Я обходил огромные лужи.
Я уходил в соседнюю рощу.
Больничное здание белело
в проемах промежду белых берез.
Плечо загипсованное болело.
Я его осторожно нес.
Я был ходячим. Осколок мины
моей походки пронесся мимо,
но заливающе горячо
другой осколок, ударил в плечо,
Но я об этом не вспоминал.
Я это на послевойны откладывал,
а просто шел и цветы сминал,
и ветки рвал, и потом обгладывал.
От обеда и до обхода
было с лишком четыре часа.
Мужайся, — шептал я себе, — пехота.
И шел, поглядывая в небеса.
Осенний лес всегда просторней,
чем летний лес и зимний лес.
Усердно спотыкаясь о корни,
я и самую чащу его залез.
Сквозь ветви и сучья синело небо.
А что я знал о небесах?
А до войны я ни разу не был
в осеннем лесу и в иных лесах.
Война горожанам дарила щедро
землю — раздолья, угодья, недра,
невиданные доселе леса
и птичьи неслыханные голоса.
Торжественно было, светло и славно.
И сквозь торжественность и тишину
я шел и разрабатывал планы,
как лучше выиграть эту войну.
Самая военная птица