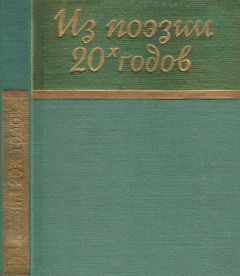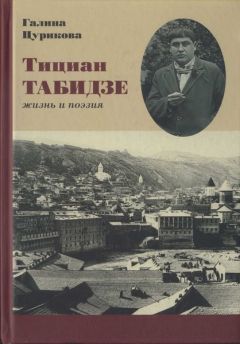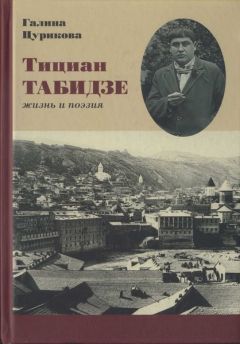Галактион Табидзе - Стихотворения
Первая из «Эфемер» Галактиона Табидзе… Поэт — родина — мир — космос; поэзия — жизнь — смерть — бессмертие; страдание — сострадание — избавление — радость; хаос — тревога — надежда — гармония. Казалось бы, все главные мотивы поэзии Галактиона Табидзе сведены здесь, чтобы бешеной сменой света и тени, «магии солнца» и «шаманства луны», грохота какофонии и мелодического трепета сопровождать стремительный бег его «синих коней», мчащихся к финишу Вселенских конных состязаний:
Кто скакал со мною вровень? Я — поэт до нитки нерва.
Разве я хоть каплей крови, хоть кровинкой — не грузин?!
Запорошен и завьюжен, путь мой в небе обнаружен.
Конь ретивый, синегривый дышит ветром перемен.
…Мчатся кони, кони, кони на Вселенском ипподроме,
Мчатся синие фантомы по разомкнутым кругам…
В «Эфемере», как сказано, были намечены темы поэзии и судьбы поэта. Они развиваются в стихотворении «Снова эфемера». Но на смену фантасмагории, напоминающей видения Иеронима Босха или Гюстава Доре, приходит образ поэта, художника, артиста таким, каким видела его романтическая поэзия первой половины XIX столетия и каким предстает он в урбанистических стихах второй половины XIX и начала XX веков. И если имена и поэтические мотивы, скажем, Мюссе и Готье здесь подразумеваются, хотя и не названы, то образы Верхарна и Достоевского непосредственно определяют лирический сюжет второго стихотворения цикла. Верхарн выступает здесь как «нового железного столетья Дант», исходивший все круги урбанистического ада, а воссозданный в стихе портрет Достоевского навеян картиной его гражданской казни со смертным приговором, эшафотом, палачом и запавшими, невидящими — все видящими — глазами гения… В финале прозвучит еще последний аккорд его образного лейтмотива — о странном и страшном состоянии мира, безветрии, когда затаившийся ветер все же отсекает головы поэтов, то есть — в образной системе стихотворения — самых высоких деревьев, и именно потому, что они слишком высоки.
Да это заговор равных — Смерти и Жизни, а жертвы — Поэт, Художник, Артист, Искусство.
И тогда в тысячный раз поднимается в душе из века в век повторяющийся вопрос — быть иль не быть?
И когда наступает в жизни поэта час таких вопросов — может случиться непоправимое. Так решается Галактион Табидзе на роковой шаг — в 1922 году он уничтожает, сжигает все свои рукописи, письма, дневники, любимые книги… Но, опомнившись, внесет в новый дневник трагическую запись: «В какое бесконечное и бездонное одиночество и тоску я погружен. Потеряно, уничтожено мною же все, что писалось с детства, все, буквально все. Никогда не испытывал я ничего похожего… Будто умерла сама юность моя: вся моя юность, бессонные ночи, целый мир чувств и переживаний — радости прилежного труда, самоотдачи, самозабвенных порывов… Я один, совершенно один, и кто мне вернет то, что потеряно!.. Будущее?!»[16] Как отзвук этого отчаяния возникает третья, «Морская эфемера» — о корабле «Надежда», который готовится поглотить пучина… В «Морской эфемере» запечатлены многие образы, которые в других стихах (через год — в «Буре» и пять лет спустя — в «Городе под водой») будут переосмыслены: из хаоса вновь родится гармония. Но и теперь, в том же сложном двадцать втором году, уже в четвертой по счету эфемере — «Новогодней» — возникает гармонический моцартианский мотив с отголосками поэзии французского «Парнаса» и легким, миротворящим отблеском благородного гедонизма Готье — Делароша. Вспомним знакомые нам образы стихотворений «Примирение», «Поэзия — прежде всего» и «К Готье». В «Новогодней эфемере» воскресают все эти мотивы, заключенные на этот раз в современный, светлый лирический сюжет (словно по модели — «печаль моя светла»), овеянный мечтою о новом Моцарте, о новой Беатриче, о возможности примирения со смертью — через «прощальный возглас лебединый». А мы знаем, что такое примирение и есть преодоление, оно и есть бессмертие.
«Новогодняя эфемера» как бы высветила громокипящие, громогласные бетховенско-вагнеровские волны прежних «Эфемер». Предстояло появиться — уже весною двадцать третьего года — еще двум «Эфемерам»: знакомой нам «Родной эфемере», где в ответ на драматически напряженные вопросы прозвучит вера в бессмертие Амирана-Прометея, и, наконец, последнему стихотворению из этого симфонического цикла, названному, как и самое первое, просто «Эфемерой». Здесь вновь будут сопряжены Жизнь, и Смерть, и «Поэзия — прежде всего», будут сплетены имена Гойи, Паганини и Готье. Между «Новогодней» и этими «Эфемерами» двадцать третьего года Галактион Табидзе в чудесном предновогоднем верлибре (где Мери — муза его поэзии читает в саду томик любимого Шелли) провозгласит, укрепив свое сердце надеждой, здравицу в честь наступающего 1923 года:
Я хочу подняться к заоблачным вершинам гор,
Чтобы увидеть все полюсы мира.
Я требую слова:
«Я взглядом окину народы и страны».
Я громовещаю:
«Отрицаю тебя!
И люблю!»
Двумя миллионами глаз
Смотрю я на Новый
Тысяча девятьсот двадцать третий год
И говорю:
«Да здравствует будущее!»
«Два миллиона глаз» новой Грузии (по числу ее тогдашнего населения) — олицетворение полного слияния поэта с родным народом. В этих строках и своего рода отблеск, отсвет, отзвук лирического лейтмотива эпической поэмы Маяковского, в которой поэт провозглашал: «Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими».[17]
Пройдет год, и от имени поэтов революционной Грузии Галактион Табидзе произнесет клятву, ставшую знаменем и девизом советской грузинской интеллигенции. Как бы окинув мир зорким взглядом, поэт выскажет тяжелые предчувствия о грядущих мировых катастрофах, войнах и потрясениях:
Ожиданье ли сердце тревожит,
Или тайная мучает дума,
Что не раз еще вырваться может
Огневое дыханье самума…
…Желто-серые, ржавые тучи
Закрывают багряные выси…
Может быть, этот сумрак гнетущий
И прорвется внезапно к Тбилиси.
И на самой высокой ноте провозгласит он торжественно клятву:
Мы же станем — во имя отчизны —
Там, где огненный ангел простерся.
Новым дням отдаем свои жизни
Мы, грузинской земли стихотворцы.
Клятва эта была произнесена в год смерти Владимира Ильича Ленина. Смерть Ленина еще сильнее сплотила вокруг ленинских идеалов и заветов людей доброй воли.
Траурным январем 1924 года сложились стихи Галактиона Табидзе, передавшие и выразившие муку и боль, которыми были охвачены Москва и весь мир, поэт и человечество в те памятные дни («Ленин»).
Завершается еще один этап в поэзии Галактиона Табидзе.
Двадцать четвертому году суждено было стать одним из самых напряженных в жизни поэта. И одним из наиболее плодотворных. И на редкость полифоничным. Судите сами: две удивительные поэмы — знакомый нам «Джон Рид» и «Память о днях, когда молния вспыхнула», экспрессивная, тревожная кантата «Ветров» и стихи-прощание с Валерием Брюсовым; лирические миниатюры и сельские зарисовки; с новой силой зазвучавшая оркестровая тема революции и пробуждающегося Востока (с пророческим и гневным монологом Азии, созвучным блоковским «Скифам»), и снова, и снова — стихотворение за стихотворением — панорама Октябрьских дней, воплощенная не только в лирической хронике (как в «Джоне Риде»), но и в патетической исповеди ораториального звучания; и главенствующие стихи этого года, с которых мы и начали разговор — клятва от имени «грузинской земли стихотворцев» и торжественный реквием, посвященный Ленину.
В «цикле» «Ветров», в его «увертюре» («Ветер смуты»), где одной-единственной рифмой не только окольцованы все неравномерные по дыханию — короткие и длинные, прерывистые и протяжные — строки, но и охвачены едва ли не все слова, кроме редких глаголов, наречий и союзов, — с кинематографической стремительностью проносятся кадры, в которых картины метели и снегопада озвучены звоном колоколов, тень рухнувшего царского трона поглощается потоком знамен, штандартов, стягов, на смену же общему плану с толпами солдат — во весь кадр вырастает фигура исступленно кричащего всадника. Раздаются звуки неожиданно «родимой» канонады (так и сказано: «канонада родимая»!), и при новых ураганных порывах «мутного ветра» (будто встряхнули трубку калейдоскопа и сразу же придержали) сквозь свинцовые тучи проступает грозный силуэт Петербурга. И сразу же вслед за этой увертюрой — уже в «Ветре воспоминаний» — резкий контраст — отступление назад, уход в еще мирное и вполне личное прошлое. Но даже там, в блаженном, казалось бы, мире, затишье было обманчивым. Это ощущение неуверенности, ненадежности покоя реализуется в стихотворении 1924 года «Ветер». Не только земной простор, но и сердце не защищено от бури и ветра, от шторма и вьюги: