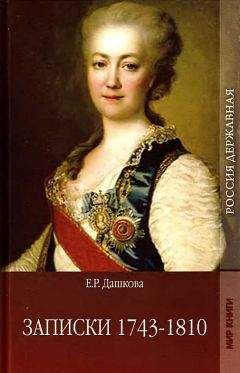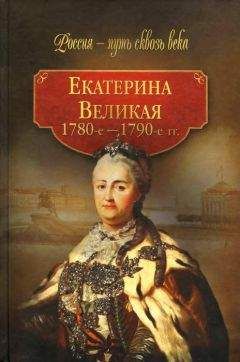Василий Пушкин - Поэты 1790–1810-х годов
154. РЕКЕ КУБРЕ
Кубра! ты первая поила[163]
Меня пермесскою водой,
Младое чувство возбудила
Прельщаться греков простотой.
Я на брегу твоем высоком
Всегда спокойным сердцем, оком
Ловил природы красоты;
Не знал кумиров зла, ни мести,
Не зрел рабов коварства, лести,
И собирать хотел цветы.
Хотел, подруги Феба, музы,
По вашим странствовать горам,
Нося прелестные мне узы,
Курить пред вами фимиам,
И воду пить пермесских токов,
Как Ломоносов, Сумароков[164],
Парил я в мыслях на Парнас,
Дерзал стремиться вслед Гомера[165];
Но вдруг представилась Химера,
Исчезла мысль, и дух погас.
Кубры оставя ток прозрачный
Приятных и спокойных вод,
В предел я поселился мрачный,
В превратный пояс непогод,
Где светлый жезл куют морозы,
Весной дышать не могут розы,
И где сердитый царь Борей,
Неистовым свирепством полный,
Далече посылает волны
Губить богатый злак полей.
Кубра, виясь кольцом и ныне,
Спешит мои березки мыть,
Течет торжественно в долине.
Зачем не суждено век жить
Мне там, Кубра, твое где ложе,
Где те, что мне всего дороже[166],
Где я без желчи воду пил,
В восторге радостном и мире
Играл среди весны на лире,
И сладость бытия вкусил.
Хребет свирепого Нептуна
Пловец стремится попирать,
И стре́лу грозную Перуна
Средь бурь дерзает отражать.
Когда смирятся моря бездны,
Весельем дышит брег любезный,
Наскучит смертоносный вал,
К пенатам кормчий возвратится;
Раскаянье в душе родится,
И подвиг славы скучен стал.
В игривых мне волнах являет
Кубра обилие чудес,
И мысль крылатая летает
На свод лазуревый небес.
Далече простираю взгляды:
В эфире плавно мириады
Своей катятся чередой;
Громады гор, вод быстрых бездны,
И смертного труды полезны
Теперь сияют предо мной.
Что протекло, возобновляю
По воле в памяти моей;
С Сократом вместе обитаю
Благотворителем людей.
Дух любопытственный насытить
И созерцанием восхитить —
Источник истинный утех;
На мир раскинуть мысль свободну,
Постигнуть красоту природну —
Веселие превыше всех.
Пускай Кубры прозрачной воды
Мне в сердце радости вольют,
И лет моих преклонных годы
Без огорчений потекут.
Она мила между реками:
Приятно щедрыми судьбами
Я совершаю срок годов.
Я начал здесь играть на лире,
Засну, оконча песнь Темире,
При шуме от ее валов[167].
155. ГАВРИЛЕ РОМАНОВИЧУ ДЕРЖАВИНУ
Министр, герой, певец! блажен, кто духом силен[168];
Планетам таковым заката в мире нет;
Кто дарованием и чувствами обилен,
Без опасения, как вождь светил, течет,
Сияньем землю озаряет, —
Огонь святый не угасает.
Орел, которому земли в пределах тесно,
Являет крепость сил и мужество чудесно;
Среди юдольных стран он селянин небес;
Открыл повсюду путь наперснику Зевес,
Взвился, и высочайши горы
И солнца дом объяли взоры.
Певец! ты лепоту и стройность видел мира[169],
Движение планет в обители эфира,
Где звезды странствуют, бросая свет в ночи,
Где преломленные в дол сыплются лучи;
Ты видел, как орлы парили
И солнце крыльями закрыли.
Приемля дар и кисть, не скрой злодейств картины.
Под игом уз земной нередко страждет шар[170],
Кровь смертного пиют поля, морей пучины,
Наносит властелин бессильному удар.
Глагол небес — молчат законы,
Нередко слышен вопль и стоны.
Священной истины живописуй уставы,
Род смертных покажи среди счастливых дней,
Представь сияние неложной в мире славы,
Любовью дышащих изобрази царей.
Певец! ты был внутри чертога,
Ты видел ангела и бога[171].
Воспламененных лир паря далече струны,
Гремят сквозь цепь веков, как грозные перуны.
Да будет песнь твоя священной правды храм,
Твои стихи — закон народам и царям;
Изобрази красы прелестны,
Представь Петра труды чудесны.
Неутомимого представь орла в полете,
На суше и водах, вверху кремнистых гор,
Который, плавая лучей в горящем свете,
На беспредельный круг бросает быстрый взор,
Оттоле жертвы похищает,
Птенцов лелеет и питает.
156. В. Л. ПУШКИНУ НА ПРЕБЫВАНИЕ В КОСТРОМЕ
Благополучию, забаве
Нигде всемирных громов нет.
Живущий в пышности и славе
Нередко горьки слезы льет,
А Тирсис, сельский обитатель,
Пастушки милой обожатель,
Веселье в розовом венке
На бархатном лужку встречает,
В восторге сладком утверждает:
Оно вот здесь — при ручейке.
На Темзе пышную столицу
Ты, Пушкин, странствуя, видал;
И вкуса Роскоши столицу,
Чудесную Лютецу[172] знал.
Средь вихря радостей пременных
Не мог ты в мыслях восхищенных
Насытить чувствие и взор:
По утру Фидиас прельщает…
А там «Меропа» восхищает…
Или — гремит небесный хор.
Иное Комус прихотливый
Дает великолепный пир,
А после яств слова игривы
И песни сладкострунных лир
Тебя в чертог возносят Феба.
До высоты достигнув неба,
Ты Мерсие, Дюсиса зришь
И с ними Томсона читаешь
Или к Филиде страсть питаешь
И о романах говоришь.
Ты, возвращенный вновь пенатам,
На Волге зришь Пермесский ток,
Грозишь на лире супостатам,
Сулишь россиянам венок.
Секваны, Темзы удаленный,
Средь Норда муз не отчужденный,
На Волге любишь с ними быть,
Где хитрыми они руками
Военны лавры с их цветами
В один венок могли вместить.
Хоть милость Фебову ты носишь,
Но дар умеешь величать,
Творца безделок[173] превозносишь,
Спеша везде его венчать,
И не смущаешься в досаде,
Когда холодных стран в наряде
По-русски видишь Буало,
Как гласных он спешит расставить,
Стеченья грубые бесславить,
Прося, чтоб было всё как скло.
Шумяща быстрыми волнами
Огромный Волга кажет вид,
Она восточных стран дарами
Россию щедро богатит.
Речной играет ветер злобно,
Веселье, труд текут подобно,
Равно в Париже, в Костроме
Несчастие людей терзает,
Но где ж блаженство обитает?
В спокойной совести, в уме.
Имея нежно сердце, чувство,
Хоть пышных видов удален,
Хотя чудесное искусство
Не ловит душу, мысль в плен,
Ты в розах видишь всю природу,
Там светлую встречаешь воду,
Развесисты древа близ рек.
Когда цветы где обретаешь,
Тогда как бабочка летаешь
И их сбираешь целый век.
157. < И. И. ДМИТРИЕВУ>
Давненько Буало твердил, что целый век[174]
Сидеть над рифмами не должен человек;
Я признаюсь, — себя тем часто забавляю,
Что рифмы к разуму, мой друг, приноровляю.
Пускай, водимые враждебною рукой,
Досады спутствуют с забавою такой,
Пусть музы иногда мне самому суровы,
На Пинде нахожу себе веселья новы;
Но более стократ любил бы Геликон,
Когда б не столько строг к певцам был Аполлон.
Сей лучезарный бог искателю здесь славы
Назначил тесный путь и тяжкие уставы;
Он требует, чтоб мысль писателя была,
Как чистый солнца луч, безмрачна и светла;
Чтобы в стихи слова не вкралися напрасно,
И представлялась вещь с природою согласно,
И дар везде сиял, и быстрый огнь певца
Разлившися, зажег читателей сердца;
Чтобы паденье стоп, от смысла неразлучно,
Для слуха нежного гремело плавно, звучно;
Чтобы… но кто сочтет неисчислимость уз?
Кто может угодить разборчивости муз?
Я первый волю их нередко нарушаю,
И воду из Кубры в Кастальский ток мешаю[175]:
То изломаю ямб, то рифму зацеплю,
То ровно пополам стиха не разделю,
То, за отборными гоняяся словами,
Покрою мысль мою густыми облаками;
Однако муз люблю на лире величать,
Люблю писать стихи и отдавать в печать[176].
Строками с рифмами, скажи, кого обижу?
И самому себе от них беды не вижу.
Не станут их хвалить? мне дальней нужды нет;
Их Глазунов продаст, а Дмитриев прочтет.
Когда мои стихи покажутся в столицу,
Не первые пойдут обертывать корицу.
Мне старость грозная тяжелою рукой[177]
Пускай набросила полвека с сединой;
Поверь, что лет моих для музы не убавлю,
И в доказательство я Буало представлю.
В мои года писал стихами Буало,
Шутил затейливо, остро, приятно, зло.
Себя не ставя в ряд певцов, венчанных славой,
Довольно, что стихи считаю я забавой.
Хвала правительству! — на рифмы пошлин нет!
Ничей от них меня не отвратит совет.
Как? может Бабочкин, с поблекшими власами,
Климене докучать свидания часами?
С подагрой, кашлем он к Амуру подлетя,
Пугает иль смешит коварное дитя.
В Петрополе Бичев, явясь из края света,
Сияет на бегу, как новая планета[178],
И вихрем носится, ристанья чин храня;
Он, выю извернув ретивого коня,
Мечтает, что ему завидуют и боги,
Коль бегуна его резвее прочих ноги.
Обжоркин каждый день для всех твердит одно,
Что сытный был обед и вкусное вино;
Изволит завтракать бифстексом и росбифом,
Потом в Милютиных, не справяся с тарифом,
Отколе и когда приходят корабли,
За кажду устрицу бросает два рубли;
Готовясь пировать на свадебном обеде,
Успеет завернуть пить шоколад к Лареде —
Он счастлив, вне себя за лакомым столом;
Он любит перигю, и с стерлядьми знаком;
Глазами жадными все блюды пожирает:
На гуся целит, ест пирог, форель глотает,
Котлетов требует, или заводит речь,
Чем сдобрить винегрет, как вафли должно печь[179],
А после кинется на виноград и сливы,
На дули, яблоки, на сочные оливы;
Там время полдничать, там ужинать пора,
Он упражнен едой до полночи с утра.
Обжоркину жена, и совесть, и рассудок,
Дары и почести — один его желудок.
Шаталов, тот слуга покорный всех вельмож,
Он только рассевать привык повсюду ложь;
В восторге, в радости, при музыкальном громе,
Про вести скажет: «Их я слышал в знатном доме».
Для дел и для забав у всякого свой вкус;
В их выборе отнюдь не налагают уз.
Что Бабочкину здесь, Шаталову возможно,
Тем пользоваться мне зачем, скажи, не должно?
Так, каждый для себя веселье изготовь,
Их забавляет бег, стол, вести и любовь —
Пусть тешатся они в сей жизни шумом, стуком;
Я веселюсь твоим приятным, муза, звуком.
Мне в «Федре» басенки отрадно прочитать;
Люблю переложить на русскую их стать;
Люблю, склоняя слух к Расина скорби, стону,
Принудить у Невы крушиться Гермиону;
Люблю Горация высокой мысли гром
Своим на севере изображать пером;
Но песнопения болезнию не стражду,
И лавров на главу зеленых я не жажду.
Случалось, — несколько текло на свете лет,
Что сам я забывал о том, что был поэт[180];
Не мня, что скудный дар — отечеству заслуга,
Я посещать люблю Парнас в часы досуга.
Надеюсь, — может быть, в числе стихов моих
Внушенный музами один найдется стих;
Быть может, знатоки почтут его хвалами,
Украсят гроб певца приятели цветами,
И с чувством оценят не мыслей красоту,
Не обороты слов, но сердца простоту[181].
А. П. БУНИНА