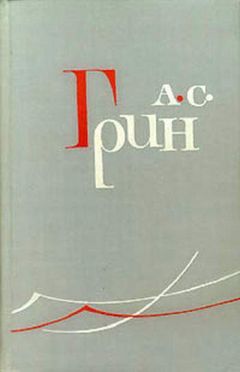Александр Твардовский - Василий Теркин. Стихотворения. Поэмы
– Подбрасывает…
– Ладно, ладно, подбрасывает! – неласково отзывается она, передразнивая его слово. – Давай смотри, куда лучше с подводой подъехать, чтобы мне не три версты раненого таскать.
Ездовой обиженно умолкает. Поле боя уже в виду. Дымные кусты разрывов встают внезапно, как из-под земли, то там, то здесь, то врозь, то парами. Надя всматривается в какой-то черный предмет справа от дороги – не то строение какое, не то автомашина, брошенная в снегу. Нет, комбайн, оставшийся здесь с лета. А место подходящее поставить повозку. И носить не так далеко.
– Шерабурко, подворачивай!
И вдруг отдельно от грохота боя, тоньше, тревожнее и тоскливее, чем снаряд либо мина, над самой головой свистят пули, и оттуда, от комбайна, доносится треск автомата. Шерабурко роняет вожжи и кулем валится под повозку.
– Шерабурко, что с тобой? («Не ранен ли?» – думает Надя, кидаясь к нему и ловя на снегу вожжи.) Шерабурко, миленький…
Нет, он не ранен, этот добрый, простецкий парень, не обвыкший еще на фронте. Но ему так стыдно подняться, что, удлиняя свой позор, он лежит, будто бы ничего не слыша.
– Садись, правь лошадью, – приказывает она в полную меру своего старшинства над ним. – Раненые ждут, а ты под повозкой прятаться? Садись, а то я тебе сейчас… – Она соображает, чем бы таким пригрозить. – А то я тебя сейчас гранатой подорву, Шерабурко. Сейчас!
Ездовой вскакивает и забирает у нее вожжи. Бедняге в голову не приходит, что и гранаты здесь нет никакой и что угроза эта, в сущности, неосуществимая. Он только чувствует властный тон этой девчонки, которая ничего сама не боится и другим бояться не позволяет. Комбайн остается в стороне, Шерабурко правит еще ближе к месту боя, но бой и справа, и слева, и, кажется, уже за спиной у него.
Через полчаса по этой же дороге боец благополучно отвозит двух раненых, уложенных на повозку Надей. А сама Надя остается в батальоне.
В дыму подожженной во время боя деревни она натолкнулась на тяжело раненного лейтенанта. Его уже уложили на сани, первая помощь была оказана, но он лежал на перемешанной со снегом соломе в одной гимнастерке – шинель, должно быть, сбросил в горячке боя. Надя быстро сняла свою шинельку-маломерку, укрыла лейтенанта, а сама осталась в одной стеганке.
Из этой деревни она, может, и не выбралась бы. Немцы оттеснили наших на самую окраину. Автоматчики подошли уже так близко, что нужно было убегать. А ноги ее уже не слушались – так она была измучена, – а тут еще остается боец с залитым кровью лицом, пуля прошла у него по надбровью, и он ничего не видел и был слаб от потери крови. Тогда их заметил другой лейтенант, подхватил обоих за руки и потащил обходным путем из деревни. На выходе из деревни по дороге уже бил немецкий станковый пулемет, и пришлось там долго лежать на снегу, а Надя была вся в поту, разгоряченная и в одной своей стеганке.
Потрясения и муки этого дня сломили ее. Она была отправлена в тыл дивизии, в госпиталь. Вернулась Надя на работу остриженная и оттого ставшая как будто еще меньше ростом.
И снова она встретила на поле боя своего спасителя – лейтенанта. Теперь он был ранен в голову. И он узнал ее.
– Уходи, уходи, Надя! Дела мои плохие, беги.
– Нет, уже теперь я над вами хозяйка, товарищ лейтенант.
Она перевязала и вынесла его, но остался ли он жив, слышать ей не случилось.
Она уже так надорвалась, изнурилась, что просто глядеть больно – худышка, бледненькая, с наивно и как будто печально вздернутым носиком. И говорит о себе, осторожно покашливая, с грустью и жалостью не к себе, а к тому, что так ненадолго ее хватило:
– Перевязать я еще, конечно, перевяжу, но вынести уже не вынесу. Знаю, не вынесу.
Рассказ ее как-то сам собою связался у меня с одним воспоминанием.
Июль это был или уже август – не помню. Ехал я, сидя спиной к кабине, на открытом грузовике. Заходило солнце. Помню даже, что поразительно правильно был перерезан красный диск солнца пополам тоненьким, как ниточка, светло-синим облачком. Лежала огромная тень от леса, к которому мы подъезжали, обгоняя колонну бойцов, головой уже вошедшую в тень. Вне строя, по обочине, шла девушка в военном, с санитарной сумкой. И такая она была молоденькая, недавняя, серьезная и скромная.
Я залюбовался ею в те секунды, покамест позволяло расстояние, и успел невольно улыбнуться ей или даже кивнуть. И она улыбнулась чуть-чуть, но так хорошо, дружески и доверчиво, что и запомнилось это. Может быть, ее уже нет на свете. Может быть, она все еще в батальоне, на своей скромной и тяжкой должности санинструктора.
Во всяком случае, она уже на десять лет старше, чем была, когда входила в ту огромную тень от леса и смотрела прямо на красный закат разделенного облачком солнца.
Комбат Красников
Еще в дивизии слышал, что есть один комбат без командирского звания и даже с неснятой судимостью. Но когда приехал в этот батальон, как-то не придал значения тому, что у командира – пустые петлицы, – мало ли как сейчас ходят.
Сразу было видно, что человек это дельный, старательный и знающий. И любит показывать оборону своего участка, как иной добрый председатель колхоза спешит, бывало, повести тебя на скотный двор, на ток, туда, сюда…
Гостей было многовато, но основная их часть должна была скоро уехать в другой батальон. Эта группа и пошла первой смотреть боевое охранение.
– Я их быстренько проведу, – шепнул мне комбат, – а с вами мы потом все как следует. Все вам покажу, расскажу. – И в его добрых, серых, несколько воспаленных глазах и виноватой улыбке на немолодом уже и несвежем лице было такое доверительное выражение, как будто речь шла о том, что после общего формального обеда со всеми мы еще отдельно по-настоящему выпьем и закусим.
Гости проходили часа два или больше, уже свечерело, а прошел митинг, и вовсе время уже было уезжать. Стали все прощаться, в том числе и мы, хотя и не побывали в охранении.
– Как? А я думал, вы у нас поночуете, – обратился комбат ко мне, почему-то считая, что я имею к его батальону особый интерес, видимо, очень дорожа этим обстоятельством.
Прощаясь, извиняюсь, жму ему руку, а у него такая трогательная растерянность на лице.
– А я, знаете, хотел вам все по порядочку, как следует. К самым немцам хотел вас сводить, вот как до этих саней, сидят они там совсем близенько.
В полку я вдруг узнаю, что это и есть тот самый комбат Красников, о котором мне рассказывали в дивизии. Комбат без звания и с неснятой судимостью.
Утром я взял лошадь в полку и поехал опять в этот батальон. Как он обрадовался, Красников! Он, видно, решил, что люди перестают им интересоваться, узнав, что он судимый, сидел в тюрьме. Все равно, мол, о таком не напишешь в газете.
Поводил он меня всюду, где только можно было, по снежным ходам сообщения и просто полем, чуть не завязил меня в проволоке «малозаметных препятствий», рассказал, что к чему в системе его оборонного хозяйства, дал произвести очередь из пулемета, выстрелить из противотанковой пушчонки, – конечно, не в связи с появлением танков противника, – словом, занимал гостя чем мог.
Потом с группой его командиров обедали, и солдат носил жареное из другой избы через улицу. Под конец Красников наклонился ко мне за столом с доверительным, как давеча, словом на ухо:
– Пусть разойдутся, а мы еще потом с вами – по капельке.
Мы остались одни, и я попросил его рассказать мне свою историю. Забудьте, мол, что я человек, берущий все на карандаш. Расскажите, если можете, откровенно самую суть дела.
– Суть дела – вот она, – улыбнулся он, с робкой шуткой приподняв запотевший от холодной водки стаканчик. – Вот она, суть.
И он мне рассказал все так, что у меня не было оснований сколько-нибудь усомниться в правдивости его слов.
Он был уже майором, учился на третьем курсе в академии. И вышел из красноармейцев гражданской войны, из батраков, малограмотных. Слабость, на которую он указал, как на суть дела в его судьбе, помешала ему закончить академию. Большое военное лицо, вызвав его однажды к себе в кабинет, сказало:
– Я пьяниц не люблю и у себя не потерплю.
Робкий от своего порока, Красников оробел еще более, и последний испытательный срок, предоставленный ему тем лицом, как будто бы проходил безупречно. И вот он собрался впервые за всю жизнь на курорт с женой, получил отпускные деньги и встретил, конечно, в день сборов к отъезду старого товарища времен гражданской. «Рванули с грохотом», – как выразился он по поводу этой встречи. Дело было в 1937 году. И хотя он хорошо знал, что даже в пьяном виде не мог высказывать каких-либо дурных вещей, но так и пошел со своей виноватой улыбкой в тюрьму, имея скрытое сознание другой безусловной виновности – своей слабости, хотя не она ему вменялась теперь в вину.
В сорок первом году его выпустили. Жизнь была перевернута. Жена, похоже, покинула его. Где-то есть дочурка, о которой он упомянул с нежностью, опять же робкой и виноватой.