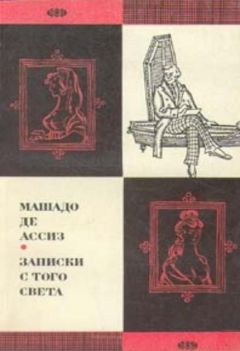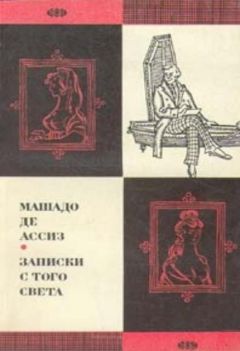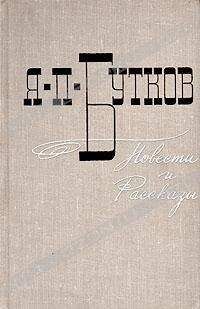Жуакин Машадо де Ассиз - Избранные произведения
Но если мать и обижала иногда свою кузину, то Капиту не давала тетушке повода к неприязни, впрочем, ненависть не нуждается в особых причинах. Просто нежная привязанность моей матери к Капиту была неприятна нашей родственнице. Если вначале она относилась к девочке неплохо, то со временем переменилась и стала ее избегать. Капиту, заметив отсутствие тети Жустины, шла за ней. Тетушка против своей воли терпела эти заботы. Моя подруга всячески пыталась обворожить старуху, и той приходилось кисло улыбаться, но, оставшись наедине с моей матерью, она всегда умудрялась найти в маленькой соседке какой-нибудь недостаток.
Когда мать тяжело заболела лихорадкой, она попросила Капиту ухаживать за ней. Несмотря на то что это освободило дону Жустину от тягостных обязанностей, она затаила обиду. Однажды она спросила, почему моя подруга все время проводит у нас, разве ей нечего делать дома; а в другой раз воскликнула, обращаясь к Капиту: «Не к чему так стараться, вам и так все в руки плывет».
Глава LXVII
ПРЕГРЕШЕНИЕ
Я не могу разрешить больной подняться с постели, не рассказав, что происходило в это время со мной. На пятый день болезни мать почувствовала себя хуже и велела позвать меня. Напрасно уговаривал ее дядя Косме:
— Сестрица Глория, ты зря испугалась, лихорадка пройдет…
— Нет! Нет! Пошлите за ним! Я могу умереть, и душа моя не успокоится, если Бентиньо не будет около меня.
— Мы его напугаем.
— Тогда не говори ему ничего, но пусть он придет сейчас же, не откладывая.
Все полагали, что она бредит, но требовалось во что бы то ни стало привести меня; эту нелегкую миссию возложили на Жозе Диаса. Он появился в семинарии с таким мрачным видом, что я испугался. Ректор разрешил мне отправиться домой. По дороге мы молчали; Жозе Диас шел как обычно, не ускоряя шага, и походка его напоминала силлогизм — предпосылка, следствие, заключение. Он опустил голову и несколько раз вздохнул. Я боялся прочитать на его лице печальное известие. Хотя он и сказал, что болезнь не серьезная, но самое появление приживала, его молчание и вздохи могли означать что угодно. Сердце мое бешено колотилось, ноги подкашивались, я чуть не падал.
Я хотел услышать правду и боялся ее узнать. Впервые так близко коснулась меня смерть, взглянув пустыми темными глазницами. Чем дальше я шагал по улице Барбонос, тем больше угнетала меня мысль, что, войдя в дом, я услышу плач и увижу покойницу… О! Никогда мне не передать, что я пережил в эти ужасные минуты. Хотя Жозе Диас как нарочно шел особенно медленно — улица, казалось, убегала из-под ног, дома раскачивались из стороны в сторону, а рожок, заигравший в тот момент в казарме Мунисипаис Перманентес, прозвучал в ушах как трубный глас Страшного суда.
Наконец мы добрались до Городских ворот и очутились на улице Матакавалос. До дома было еще далеко, он находился ближе к улице Сенадо, чем к улице Инвалидов. Много раз собирался я обратиться с вопросом к своему спутнику, но не осмеливался и рта открыть. Я ожидал худшего, принимая неизбежное как перст судьбы, как роковую необходимость, и вот тут-то, чтобы побороть страх, надежда заронила в мое сердце… смутную мысль, которую можно было бы выразить следующими словами: «Мама умерла, с семинарией покончено».
Читатель, мысль эта мелькнула, словно молния. Не успела она осветить мрак, окружающий меня, как тут же погасла, и тьма сгустилась. Угрызения совести овладели мной. Перспектива несомненной свободы при исчезновении долга и должника поколебала на миг сыновнее почтение. Но даже сотой доли мгновения оказалось достаточно, чтобы усугубить мое горе раскаянием.
Жозе Диас продолжал вздыхать. Он бросил на меня скорбный взгляд. Я испугался, что он угадал мои мысли, и чуть было не начал его уговаривать не выдавать меня. Но в печали его было столько сочувствия, а мой грех явно его не заслуживал; значит, она умерла… Я почувствовал невыносимую тоску, горло мое сжималось, я больше не мог сдерживаться и разрыдался.
— В чем дело, Бентиньо?
— Мама…
— Нет! Нет! Что тебе взбрело в голову? Состояние ее наитягчайшее, но болезнь не смертельна, а бог всемогущ. Вытри глаза, мальчику твоего возраста стыдно идти по улице и плакать. Ничего страшного, просто лихорадка… Лихорадка начинается внезапно и так же быстро проходит… Зачем же вытирать слезы руками, где твой платок?
Я вытер глаза, хотя из всей речи Жозе Диаса только одно запало мне в сердце: «состояние ее наитягчайшее». Вероятно, он хотел сказать просто «тяжелое», но злоупотребление превосходными степенями заводит далеко, и из любви к красноречию Жозе Диас невольно усилил мою тревогу. Если ты обнаружишь в моей книге нечто подобное, читатель, извести меня, я исправлю это в следующем издании; нет ничего хуже, чем заставлять короткие мыслишки разгуливать на длинных ногах. Повторяю, я вытер глаза и отправился дальше, теперь мне не терпелось скорее оказаться дома и попросить у матери прощения за дурную мысль, пришедшую мне в голову. Наконец я, дрожа, поднялся по лестнице и, склонившись над постелью, услышал ласковый голос матери, называвший меня дорогим сыночком. Мать вся горела, глаза ее сверкали, будто ее снедал внутренний огонь. Я встал на колени у изголовья, но постель была высокая, и я оказался недосягаем для материнских ласк.
— Нет, сынок, поднимись, встань!
Капиту, сидевшая рядом, обрадовалась моему приходу; ей понравилось мое поведение и слезы, как она потом сказала; но, конечно, она и не подозревала об истинной причине моего отчаяния. Оставшись один в своей комнате, я сначала подумал было рассказать все матери, когда она поправится, но отогнал эту мысль. Никогда я не допустил бы подобной вольности, как бы ни угнетал меня мой грех. Тогда, движимый раскаянием, я еще раз обратился к испытанному средству и попросил бога простить меня и спасти жизнь моей матери, а я прочту две тысячи раз «Отче наш». Священник, читающий книгу, прости меня; в последний раз прибегаю я к этому средству. Но душевный кризис, в котором я тогда находился, а также вера и привычка объясняют все. Еще две тысячи молитв; а как быть со старыми? Я не прочел ни тех, ни других, но подобные обеты, данные от чистого сердца, похожи на твердую валюту: платит должник или не платит — номинальная стоимость ее остается неизменной.
Глава LXVIII
ПОВРЕМЕНИМ С ДОБРОДЕТЕЛЬЮ
Немногие осмелятся признаться в мысли, подобной той, что пришла мне в голову по дороге к дому. А я могу признаться в чем угодно, раз это важно для повествования. Монтень говорил о себе: «Ce ne sont pas mes gestes que j’escris; c’est moi, c’est mon essence»[90]. Но есть только один способ выразить свою сущность — это рассказать о себе все, и плохое и хорошее. Так я и делаю. Повествуя о прошлом, называю свои достоинства и недостатки. Покаявшись, например, в совершенном грехе, я с удовольствием противопоставил бы ему хороший поступок, но на память не приходит ничего подходящего. Отложим описание добрых дел до более удобного случая.
Ты ничего не потеряешь, если подождешь немного, друг мой читатель; напротив, теперь мне кажется, что… не только добрые дела хороши. Согласно моей простой и ясной теории о пороках и добродетелях, в некоторых случаях возможно и обратное. Теория эта такова: каждый человек родится с определенными пороками и добродетелями, которые объединены узами брака, дабы уравновешивать друг друга. Когда один из этих супругов сильнее другого, он единолично руководит действиями индивидуума: и если человек не совершает греха или не отличается добродетелью, это совсем не значит, что он лишен их. Но в большинстве случаев подобные качества уравновешивают друг друга на благо их носителя, способствуя зачастую процветанию земли и неба. К сожалению, у меня нет времени обосновать свою теорию посторонними примерами.
Что касается меня, то я родился, несомненно, и с пороками и с добродетелями, и, разумеется, они и по сей день не расстаются со мной. Недавно уже здесь, в предместье Энженьо-Ново, я всю ночь промучился головной болью. Шум поездов Центральной дороги раздражал меня, и я жаждал, чтобы движение прекратилось на несколько часов, пусть даже ценой чьей-нибудь жизни; а на следующий день опоздал на поезд, потому что относил свою трость слепому, потерявшему посох. «Voilà mes gestes, voilà mon essence!»[91]
Глава LXIX
MECCA
Сущность моя лучше всего проявилась в том, с каким благочестием отправился я на следующее воскресенье слушать мессу в церкви святого Антония, покровителя бедных. Приживал собрался было сопровождать меня и даже начал одеваться, но так долго возился со своими подтяжками и штрипками, что я не стал его ждать. К тому же мне хотелось побыть в одиночестве. Разговоры могли бы отвлечь меня от главной цели — попросить прощения у бога за дурные мысли, о которых я рассказывал в главе LXVII. Я хотел молить бога не только отпустить мой грех, но и даровать выздоровление матери и — раз уж я решил ничего не утаивать — освободить меня от прежнего обещания. Несмотря на свою божественность, а может быть, именно благодаря ей Иегова куда гуманнее Ротшильда — он не предоставляет мораторий, а полностью прощает долги, если только должник искренне обещает изменить образ жизни и уменьшить расходы. А мне и не надо было ничего другого; я обещал отныне немедленно выполнять взятые на себя обязательства и зарекался впредь давать невыполнимые обещания.