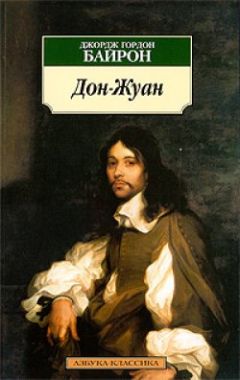Джордж Гордон Байрон - Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан
Об обстоятельствах его смерти не стоит много говорить. Скажем только, что, если бы какой-нибудь несчастный радикал, вроде Уоддингтона или Уотсона{606}, перерезал себе горло, его похоронили бы на перекрестке, со всеми обычными атрибутами в виде кола и деревянного молотка. Но министр был великосветским безумцем — сентиментальным самоубийцей, — он просто перерезал себе «сонную артерию» (да будет благословенна ученость!). И вот уже торжественная церемония, и погребение в Вестминстерском аббатстве, и «вопли скорби, несущиеся»{607} со страниц газет, и хвалебная речь коронера{608} над окровавленным телом усопшего (речь Антония, который достоин такого Цезаря{609}), и тошнотворная лицемерная болтовня гнусной шайки, составившей заговор против всего искреннего и честного. С точки зрения закона[76], его смерть дает основания считать его либо преступником, либо сумасшедшим; и в том и в другом случае он вряд ли подходящий объект для панегирика. Какою была его жизнь — знает весь мир и полмира будет чувствовать еще много лет, если только его смерть не послужит нравственным укором пережившим его Сеянам Европы[77]{610}. Народы могут, по крайней мере, найти некоторое утешение в том, что их угнетатели несчастливы и в известных случаях так справедливо судят о собственных поступках, что предвосхищают суд человечества. Не будем больше говорить об этом человеке, и пусть Ирландия вынесет прах своего Граттана{611} из вестминстерского святилища. Неужели борец за все человечество должен покоиться возле политического Вертера{612}!!!
Что касается других возражений, которые возникали по поводу ранее опубликованных песен этой поэмы, то я ограничусь двумя цитатами из Вольтера: «La pudeur s’est enfuite des coeurs et s’est refugiée sur les lèvres…»[78] «Plus les moeurs sont dépravées, plus les expressions deviennent mesurées; on croit regagner en langage ce qu’on a perdu en verlu»[79]. Это совершенно точная характеристика развращенной и лицемерной кучки людей, выступающих во главе современного английского общества, и это единственный ответ, которого они заслуживают. Избитая и часто незаслуженная кличка богохульника, как и другие подобные ей, вроде радикала, либерала, якобинца, реформатора и прочее, — таковы обвинения, которыми наемные писаки прожужжали уши всем, кто согласен их слушать. Эти обвинения должны, в сущности, быть очень приятны для тех, кто помнит, против кого они в свое время выдвигались. Сократ и Иисус Христос были преданы публичной казни именно как богохульники. И так бывало и еще может быть со многими, дерзающими противиться самым отвратительным оскорблениям имени бога и разума человеческого. Но преследование не есть опровержение и даже не победа: «жалкий атеист»{613}, как его именуют, вероятно, счастливее в своей тюрьме, чем самые надменные из его противников. С его убеждениями у меня нет ничего общего, но независимо от того, правильны они или нет, он пострадал за них, и это страдание во имя совести доставит больше прозелитов деизму, чем прелаты-еретики[80] — христианству, чем министры-самоубийцы — тирании, чем щедро награжденные убийцы — тому нечестивому союзу, который оскорбляет мир, называя себя «Священным»! У меня нет никакого желания попирать ногами мертвых или людей обесчещенных, но было бы неплохо, если бы приверженцы тех классов, из которых происходят эти лица, несколько умерили свое ханжество, это вопиющее преступление нашего двуличного и фальшивого века, века эгоистических грабителей и… но пока достаточно.
Пиза, июль 1822 г.
Песнь шестая
Приливы есть во всех делах людских{614},
И те, кто их использует умело,
Преуспевают в замыслах своих, —
Так говорит Шекспир; но в том и дело,
Что вовремя увидеть надо их, —
А все-таки я заявляю смело:
Все к лучшему! И в самый черный час
Вдруг луч удачи озаряет пас.
И в жизни женщин тоже есть приливы,
Влекущие к неслыханным делам,
И дерзок тот моряк нетерпеливый,
Который доверяет их волнам!
Сам Якоб Беме{615}, маг красноречивый,
Чудес подобных не расскажет вам:
Мужчина головою рассуждает,
А женщин сердце в бездны увлекает.
Но смелая и пылкая она
Прекрасна и стремительна бывает,
Когда, со всею страстью влюблена,
Все узы дерзновенно порывает,
Чтоб быть свободной. За любовь она
Вселенную и трон свой предлагает.
Такая даже дьявола затмит,
Любого в манихея превратит!{616}
Миры и царства можно погубить
Из честолюбия, но извиненья
Готовы мы безумствам находить,
Когда любовь — причина пораженья.
Антония привыкли мы ценить
Превыше Цезаря не за сраженья,
А лишь за то, что ради женских глаз
Он Акциум оставил как-то раз!
Ему, однако, было пятьдесят,
А Клеопатре — сорок! Цифры эти
Не столь уж обольстительно звучат,
Как «двадцать» и «пятнадцать»… Все на свете
Стареет; да, — увы! — года летят,
Мы чувства сердца, пылкие в расцвете,
Теряем, и способность полюбить
Нам никакой ценой не возвратить.
Но все мы эту лепту, как вдова
Библейская, внесли, и лепта эта
Зачтется нам. Любовь всегда жива,
Любовью все живущее согрето.
Недаром ореолом божества
Чело Любви украсили поэты,
Когда морщины низменных страстей
Не искажали образа людей.
В опасном положенье мой герой
И третья героиня. Всякий знает,
Чем джентльмен рискует молодой,
Который одалиску соблазняет,
Притом еще в гареме. Грех такой
Султаны все безжалостно карают,
Не уступая мудро, как Катон{617},
Приятелям своих красивых жен.
Я вижу, что прекрасная Гюльбея
Была в своем поступке неправа,
Я знаю, порицаю, сожалею —
Но это все напрасные слова.
Сказать по правде, я согласен с нею —
С тоски порой кружится голова;
Хотя султану шесть десятков било,
Наложниц у него шесть сотен было.
Здесь алгебра, пожалуй, не нужна,
Здесь арифметики простой довольно,
Чтоб доказать, что юная жена,
Которая смела и своевольна,
Томиться и скучать обречена
И может быть султаном недовольна,
Когда на склоне лет он делит с ней
Пыл шестисотой нежности своей.
К своим правам относятся серьезно
Все женщины — в особенности жены,
А ежели они религиозны,
То обвиненья их неугомонны:
За каждую ошибку очень грозно
Они нас предают мечу закона,
Дабы другая не могла украсть
У них хотя бы тысячную часть.
Таков обычай христианских стран,
Но, кажется, и жены некрещеных
Не любят отступать на задний план
И не теряют прав своих законных,
И ежели какой-нибудь султан
Не ублажает жен своих влюбленных,
Они — будь их четыре или пять —
Все за себя сумеют постоять.
Четвертою женой была Гюльбея —
Любимой, но четвертой как-никак:
Ей-богу, полигамия грустнее,
Чем наш простой и моногамный брак!
Кто знал одну жену и сладил с нею,
Тот сознает, что это не пустяк;
Вообразите ж, что за наказанье
От четырех выслушивать стенанья!
Пресветлый, превеликий падишах
(Монархам льстят прекрасными словами,
Пока не будет съеден царский прах
Слепыми якобинцами-червями{618}) —
Великий падишах, гроза и страх,
Ласкал Гюльбею нежными глазами,
Желая получить за этот взгляд,
Чего всегда любовники хотят.
Но помните, влюбленные поэты,
Что поцелуи, взгляды и слова
Для женщин — только части туалета,
Как бантики, чепцы и кружева;
Их можно, как и прочие предметы,
Снимать и надевать; и голова
И сердце ни при чем, а выраженья
Нежнейшие — всего лишь украшенья.
Несмелый взор, румянец на щеках,
Прелестного волненья трепетанье,
Смущенная улыбка на губах,
В которой только чудится признанье, —
Вот образ, вызывающий в сердцах
Влюбленности счастливое сиянье!
Излишний холод и излишний жар
Уничтожают силу этих чар!
Излишний жар нам кажется притворным,
А если непритворен он порой,
То зрелым людям, право же, зазорно
Столь юношеской тешиться игрой.
Притом — красотки пылкие покорны
Любому, кто случится под рукой;
Холодные же дамы и девицы
По большей части попросту тупицы.
Вполне понятно, возмущает нас
Бесчувственно-безвкусное молчанье,
Когда своим восторгам в нежный час
Мы требуем ответного признанья.
Святой Франциск{619} — и тот просил не раз
У ледяной возлюбленной вниманья,
«Medio tu tutissimus ibis»[81]{620} — вот
Какой завет Гораций нам дает.
«Дон-Жуан»