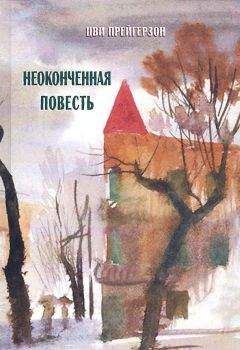Авраам Шлёнский - Избранные стихи
Последний прохожий в ночном городке
* * *
Последний прохожий в ночном городке —
шагам со счета не сбить тишину.
Усталые лица у всех этих домишек,
прилегших соснуть.
Слоняться ль по улицам? — Эти следы
ветер хвостом заметет.
Пойти ли в ту комнату, что как гроб
покойника ждет: "Он придет..."
Ветер в полночь залает — но кипарис
прячет уши в ночное дно.
Каждый ставень бессильной ресницей глядит —
этот глаз раскрыть не дано.
Лучше уж и мне покориться сну:
ставни глаз будут затворены,
пока заря, как осенний лист,
не коснется усталой спины.
Перевод В. Глозмана
НЕТРЕЗВАЯ НОЧЬ /Перевод В. Глозмана/
Как сын, что ждет отца, а тот лежит,
напившись, в луже у порога —
так я глядел в окно.
Над клетками домов сливались все ветра;
и, точно эхо взламывает эхо,
входили в силу голоса беды —
от детских слез до пьяной брани Лота.
Открылась ложь в обетах лицемеров —
дневного света, радостного смеха.
Пейзаж лежит, напившись, за окном,
и, крадучись,
сочатся сквозь сплетенья облаков
мерцанья наглых звезд.
Как много зла, зима, в твоем приходе!
Перевод В. Глозмана
В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ /Перевод В. Глозмана/
Глухой переулок —
в нем тени домов, и нет людских голосов,
лишь тающий отзвук шагов
да бормотанье деревьев.
К тебе здесь даже камни не взывают.
Не совладав с такою тишиной, —
молчи и ты, ютись в дому,
который притесняет всех жильцов
за мелочи их дней людских.
Из этих мелочей
мы выстроили вечность на мгновенье,
как строят дети
из кубиков дворцы и города.
Перевод В. Глозмана
ДРУГ ДРУГА /Перевод В. Глозмана/
Поколение, умевшее речи толкать,
не успевавшее слушать, —
разобралось во всем,
а взлететь не сумело.
Вот оно, пред тобой,
на сей раз — в лохмотьях,
слушающее тишину
внимательно, как никогда прежде.
Как вдруг за ночь одну
ворота распахнулись.
Эй ты, робко ждущий за дверью,
жаждущий слов моих,
как прежде ты искал
того, кто слушать готов.
ты знаешь, ты видишь,
не я постучался в дверь,
не я тебя звал —
мы сегодня позвали друг друга.
Перевод В. Глозмана
Владыка вселенной!
* * *
Владыка вселенной!
Есть солнце среди Твоего мира,
и оно — как рог золотой,
зовущий паломников на службу Творцу.
Владыка вселенной!
Есть луна посреди Твоего мира,
и она светит,
как тфилин золотой на прекрасной Твоей голове.
Владыка вселенной!
Есть человек посреди Твоего мира,
и он сотворен по образу, и кровь во всех его жилах —
частица Бога с высот.
Но Владыка вселенной!
Есть самый малый из тысяч Израиля,
которого Ты сотворил
и наделил его тело членами,
ни одного не убавив из числа "ремах"[15].
Но почему Ты его сотворил земледельцем с серпом,
который хлебов не нашел в разгар косовицы?
О, почему, Владыка вселенной!
Перевод Ф. Гурфинкель
ИЗ ПЕСЕН ХУ-А-ЛУ /Перевод Ф. Гурфинкель/
1. Как вдруг ослепший
Я помню хорошо смутившую меня внезапность,
когда впервые я услышал голос мой
с магнитофонной пленки;
мой голос это?
Это голос мой?
Ведь я всегда такой вот голос ненавидел!
Не потому ль всегда сны виденные забывает человек
в час пробуждения,
если, скрывая недостатки, их не приукрасит,
того не сознавав?
Разве не потому все его исповеди
(с оправданиями и грехами вместе)
есть лжесвидетельство причастного к делам,
невольное присочинение?
Завтра, конечно, докажут мне и это:
что все видения и действия мои —
они не так,
они не то,
а лишь капризы
изнеженного принца.
Так видит человек свой город
в сверхзвуковом полете,
так видит космонавт планету нашу,
которая и меньше,
и милее,
и...
Все ж не как она.
Так, просыпаясь, помнит человек видения и сны
две стороны какой-то небылицы.
Испуг ослепшего, когда глаза его открылись,
и видит он тела без облачений.
2. Ты называешь это напевом
"Раздумья,
раздумья и их выражения" —
но не всегда ты говоришь словами:
ты называешь это напевом.
"Любовь,
любовь и исповедь сердец" —
но больше говорит ее молчанье.
Ты называешь это напевом.
"А странствия,
странствия и цель?" —
Но дали много ближе к вечному.
Ты называешь это напевом.
Ты говоришь напев, имея в виду все,
что сбрасывает иго обозначений и понятий,
бежит от призрачного света смысла обнаженного
и тех, кто мнит, что знает облаченья тайны.
Ибо напев — последнее, что сохранилось
от беседы Бога с его созданиями
до появления слов,
В котором все стенания твои и крики;
их ты умалчивал в молениях любви.
Ведь и сегодня ты скрываешь силы
(о, месяц полный над водой!).
Порою это чайка, вечно помнящая море,
порою это лань в возникшем силуэте —
но всегда напев.
Напев же говорит тебе:
ей имя Ху-а-лу.
Напев же говорит тебе:
ты — Абри.
3. Не хотела забыть птица
Не хотела забыть птица ту ветвь, на которой пела,
и хотело дерево помнить и помнить песню,
но когда прилетело утро на крыльях несчетных птиц,
друг друга они не увидели в неразберихе белой,
и от многокрылия птица исчезла.
Но вот устыдится день,
и они встретятся вновь,
и, быть может, на сей раз им бытие улыбнется —
и оба они прилетят на крыльях птицы одной.
4. Одна из них очень синяя
Есть тридцать шесть сокрытых птиц,
ради которых держится небо,
и песня держится,
и певец —
одна из них (всегда лишь одна!)
синяя очень:
синее небес,
синее бездны,
синей разноцветного платья Тамар, идущей к Амнону,
и снов о лестницах и снопах,
и стихов Ли Тай-по[16] и Рашбага[17].
До конца всех "более" в чудесах измышлений,
до конца всех "далеко" в полетах мечты —
потому ее не схватить,
потому ее не поймать,
не только силком,
но и глазом.
При каждом пении крыл в час благостного вечера
Ты говорил: она!
При каждом полете напева в предутренний час тишины
ты говорил: она!
В пору, когда все ясно,
в пору, когда все кажется:
то она! —
Не она!
Тридцать шесть скрытых птиц.
Тридцать шесть напевов. Приди, Избавитель,
их собери воедино.
А небеса высоки,
выше самих себя,
такими высокими не были никогда.
5. Прямая связь
Жаждой лишенный чувств,
упавший на берегу речном
в закатной полутьме от поцелуя смерти,
обрубок
против рогов в чащобе —
о, Ху-а-лу!
Вдруг вскакиваешь со своей постели
и среди звезд погибших набираешь
тот номер, может быть, забытый...
(случайно ль то, что я забыл
все номера прожитой жизни,
кроме одного:
стены-стены-стены
и образ матери, которая прекрасней всех!
Какой мой номер
сегодня
под сенью нависающего неба,
шуршащего здесь, в комнате ночной?)
...Нет, нет? Да, верно!
хоть голос (странно!), что-то есть в нем
от касанья тени
убитой птицы,
плывущей по реке.
— Алло! Кто говорит?
— Я это... Это Абри... Это я...
к тебе кричу — ты слышишь? —
тебе кричу я песню голосом наимолчащим.
Так не молчала никогда глубь сцены,
покинутой последним из актеров.
Так не молчали громы бурь,
пока не пробил час их в тучах.
Так не молчал и я
до сей минуты.
Услышь! — кричу я. —
мне помоги бежать от самого себя,
как скрипка убегает от стрелы и лука.
Ведь ночь сомкнула вкруг меня осаду
в звездном ливне,
ведь вновь она смеется надо мной из мрака снов моих,
как беспризорные мальчишки над Элишей:
"Нево, Нево, Нево…
Не дойти до него!
Не дойти до него!
Нево, Нево, Нево!"
Ведь вновь из чащи ночи сон поднимается во мне,
сон о роднике в кувшине,
сон о рыбачьей лодке,
и в ней плывущий гребет без весел —
и вся речная мелюзга над ним смеется:
"Не делай скрипки
из досок, оставшихся от гроба!
И локон мертвеца,
и локон мертвеца —
смычком!"
И вновь взывает ночь (да, это я!):