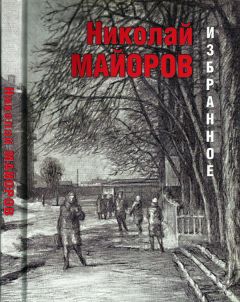Николай Майоров - Избранное
1938
Осень
Кончался август. Ветер в груши
бросал предутреннюю дрожь.
И спелый колос грустно слушал,
как серп жевал сухую рожь.
Рябины красными кистями
свисали ниже над землёй.
Качались ивы над домами,
заплакав ржавою слезой.
Но с каждым днём всё холодало.
Темней и глуше день от дня.
И осень рыжим одеялом
покрыла тощие поля…
1936
Д. Цуп. В мастерской художника
Художник
Ник. Шеберстову
Одно художник в сердце носит:
на глаз проверенным мазком
пейзаж плашмя на землю
бросить
и так оставить. А потом
всё взвесить, высчитать,
измерить,
насытиться ошибкой всласть,
почти узнав, почти поверив,
к концу опять в безверье впасть.
И так все дни.
И с риском равным
быть узнанным, взглянуть в окно.
Весь мир
принять вдруг за подрамник,
в котором люди — полотно.
И дать такую волю кисти,
так передать следы земли,
чтоб в полотне живые листья
шумели, падали, цвели.
1939
Волк
Когда раздался выстрел, он
ещё глядел в навес сарая,
в тот гиблый миг не понимая,
что смерть идёт со всех сторон.
Он падал медленно под креном
косого резкого угла.
Ещё медлительней по венам
кровь отворённая текла.
Сбежались люди, тишь нарушив
плевком холодного ствола.
А под его тяжёлой тушей
уже проталина цвела.
И рядом пыж валялся ватный
у чьих-то в мех обутых ног,
и потеплел — в багровых пятнах —
под тёплой лапою ледок…
Уже светало. Пахло хлебом,
овчиной, близким очагом.
А рядом волк лежал и в небо
смотрел тоскующим зрачком.
Он видел всё: рассвет и звёзды,
людей, бегущих не спеша,
и даже этот близкий воздух,
которым больше не дышать.
Голодной крови тёплый запах
тревожил утреннюю рань,
и нервно сокращалась в лапах
рывками мускульная ткань.
Бежали судороги в теле,
в снег ртутью падала слеза,
а в небо синее смотрели
большие серые глаза…
1938
«Я знал тебя, должно быть, не затем…»
Я знал тебя, должно быть, не затем,
Чтоб год спустя, всему кладя начало,
Всем забытьём, всей тяжестью поэм,
Как слёз полон, ты к горлу подступала,
Чтоб, как вина, ты после долго жгла
И что ни ночь — тобою б только мнилось,
Чтоб лишь к концу, не выдержав, могла
Оставить блажь и сдаться мне на милость,
Чтоб я не помнил этой тишины,
Забыл про сон, про небо и про жалость,
Чтоб ни угла, ни окон, ни жены
Мне на твоей земле не оставалось.
Но всё не так. Ты даже знать не можешь,
Где началась, где кончилась гроза.
Не так солжёшь, не так ладонь положишь,
Совсем по-детски поглядишь в глаза.
А я устал. За мною столько лестниц.
Я перешёл ту верную межу,
Когда все мысли сходятся на песне,
Какой, должно быть, вовсе не сложу.
1939
В Михайловском
Смотреть в камин. Следить, как уголь
Стал незаметно потухать.
И слушать, как свирепо вьюга
Стучится в ставни.
И опять
Перебирать слова, как память,
И ставить слово на ребро
И негритянскими губами
Трепать гусиное перо.
Закрыть глаза, чтоб злей и резче
Вставали в памяти твоей
Стихи, пирушки, мир и вещи,
Портреты женщин и друзей,
Цветных обоев резкий скос,
Опустошённые бутылки,
И прядь ласкаемых волос
Забытой женщины, и ссылки,
И всё, чем жизнь её пестра,
Как жизнь восточного гарема.
…И досидеться до утра
Над недописанной поэмой.
1937
Гоголь
…А ночью он присел к камину
и, пододвинув табурет,
следил, как тень ложилась клином
на мелкий шашечный паркет.
Она росла и, тьмой набухнув,
от жёлтых сплющенных икон
шла коридором, ведшим в кухню,
и где-то там терялась. Он
перелистал страницы снова
и бредить стал. И чем помочь,
когда, как чёрт иль вий безбровый,
к окну снаружи липнет ночь,
когда кругом — тоска безлюдья,
когда — такие холода,
что даже мёрзнет в звонком блюде
вечор забытая вода?
И скучно, скучно так ему
сидеть, в тепло укрыв колени,
пока в отчаянном дыму,
дрожа и корчась в исступленьи,
кипят последние поленья.
Он запахнул колени пледом,
рукой скользнул на табурет,
когда, очнувшися от бреда,
нащупал глазом слабый свет
в камине. Сердце было радо
той тишине.
Светает — в пять.
Не постучавшись, без доклада
ворвётся в двери день опять.
Вбегут докучливые люди,
откроют шторы, и тогда
всё в том же позабытом блюде
чуть вздрогнет кольцами вода.
И с новым шорохом единым
растает на паркете тень,
и в оперенье лебедином
у ног её забьётся день…
Нет, нет, — ему не надо света!
Следить, как падают дрова,
когда по кромке табурета
рука скользит едва-едва…
В утробе пламя жажду носит
заметить тот порыв один,
когда сухой рукой он бросит
глухую рукопись в камин.
…Теперь он стар. Он всё прощает
и, прослезясь, глядит туда,
где пламя жадно поглощает
листы последнего труда.
1939
Его герои
Здесь подлецы и казнокрады,
свиные рыла и подлог.
Чинуши, ждущие награды,
царя владетельный сапог.
Здесь городничих легионы
суды негласные вершат.
Здесь мелких тварей миллионы
вприпрыжку в ведомства спешат.
Секут детей. Считают деньги.
Сбивают цены. Спорят. Лгут,
бород заржавленные веники
уткнув в свой приторный уют.
Здесь держиморды с их замашкой.
Здесь даже вор бывает прав.
Здесь сам Ноздрёв играет в шашки
и шашки пичкает в рукав…
…И сколько их,
пустых святош,
среди отъявленных уродов,
один с другим, как капля, схож![13]
1938
История
Она пропахла пылью вековою,
ветрами лет. И ныне на меня
глядит бумагой древней гербовою,
случайно уцелевшей от огня.
А было всё:
и зябких листьев вздохи,
и сабель свист, и шёпот конопли.
Как складки лба, изрытые отроги
легли в надбровья сплюснутой земли.
Прошли века. Но ночью вдруг я внемлю:
вновь душу рвёт нам азиатский гик…
И тишина… И падают на землю
мои густые, твёрдые шаги.
1936
В солдатчине
Ему заткнули рот приказом:
не петь. Не думать. Не писать.
И мутным, словно лужа, глазом
за ним стал ротный наблюдать.
Здесь по ночам стонали глухо
солдаты, бредили. А днём
учили их махать ружьём
и били их наотмашь в ухо,
так, чтобы скулу вбок свело,
чтоб харкать кровью суток пять,
чтоб, срок отбыв, придя в село,
солдату было что сказать.
Но иногда роились слухи,
как вши в рубахе. Каждый мог,
напившись огневой сивухи,
сказать, что он — солдат и бог.
Их шомполами люто били.
Они божились и клялись.
С глазами, словно дно бутыли,
садились пить.
И вдруг — дрались.
Но вопреки царям и датам,
страданьем родины горя,
под гимнастёркою солдата
скрывалось сердце кобзаря.
1937
Отцам
Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щёк. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.
В нём не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с жёлтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком.
Был стол в далёкий угол отодвинут.
Жандарм из печки выгребал золу.
Солдат худые, сгорбленные спины
Свет заслонили разом. На полу —
Ничком отец. На выцветшей иконе
Какой-то бог нахмурил важно бровь.
Отец привстал, держась за подоконник,
И выплюнул багровый зуб в ладони,
И в тех ладонях застеклилась кровь.
Так начиналось детство…
Падая, рыдая,
Как птица, билась мать.
И, наконец,
Запомнилось, как тают, пропадают
В дверях жандарм, солдаты и отец…
А дальше — путь сплошным туманом застлан.
Запомнил: только плыли облака,
И пахло деревянным маслом
От жёлтого, как лето, косяка.
Ужасно жгло. Пробило всё навылет
Жарой и ливнем. Щедро падал свет.
Потом войну кому-то объявили,
А вот кому — запамятовал дед.
Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами.
Глаза мои обращены на всех.
1938