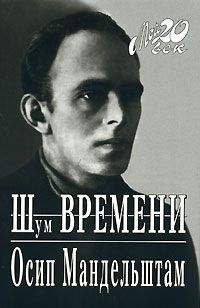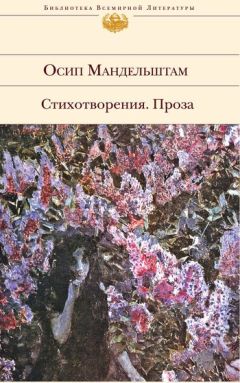Осип Мандельштам - Стихи
На все лады, оплаканное всеми, С утра до ночи "яблочко" поется. Уносит ветер золотое семя, Оно пропало - больше не вернется. А в переулочках, чуть свечерело, Пиликают, согнувшись, музыканты, По двое и по трое, неумело, Невероятные свои варьянты.
О, горбоносых странников фигурки ! О, средиземный радостный зверинец ! Расхаживают в полотенцах турки, Как петухи у маленьких гостиниц. Везут собак в тюрьмоподобной фуре, Сухая пыль по улицам несется, И хладнокровен средь базарных фурий Монументальный повар с броненосца.
Идем туда, где разные науки И ремесло - шашлык и чебуреки, Где вывеска, изображая брюки, Дает понятье нам о человеке. Мужской сюртук - без головы стремленье, Цирюльника летающа скрипка И месмерический утюг - явленье Небесных прачек - тяжести улыбка.
Здесь девушки стареющие в челках Обдумывают странные наряды И адмиралы в твердых треуголках Припоминают сон Шехерезады. Прозрачна даль. Немного винограда. И неизменно дует ветер свежий. Недалеко до Смирны и Багдада, Но трудно плыть, а звезды всюду те же. 1920
* * *
Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарей стон звенить, На мосту народ толпится, Вся ковровая столица, А внизу Кура шумит.
Над Курою есть духаны, Где вино и милый плов, И духанщик там румяный Подает гостям стаканы И служить тебе готов.
Кахетинское густое Хорошо в подвале пить, Там в прохладе, там в покое Пейте вдоволь, пейте двое, Одному не надо пить !
В самом маленьком духане Ты обманщика найдешь. Если спросишь "Телиани", Поплывет Тифлис в тумане, Ты в бутылке поплывешь.
Человек бывает старым, А барашек молодым, И под месяцем поджарым С розоватым винным паром Полетит шашлычный дым... 1920, 1927, 1935
Веницейская жизнь
Веницейской жизни, мрачной и бесплодной, Для меня значение светло. Вот она глядит с улыбкою холодной В голубое дряхлое стекло.
Тонкий воздух кожи, синие прожилки, Белый снег, зеленая парча. Всех кладут на кипарисные носилки, Сонных, теплых вынимают из плаща.
И горят, горят в корзинах свечи, Словно голубь залетел в ковчег. На театре и на праздном вече Умирает человек.
Ибо нет спасенья от любви и страха, Тяжелее платины Сатурново кольцо, Черным бархатом завешенная плаха И прекрасное лицо.
Тяжелы твои, Венеция, уборы, В кипарисных рамах зеркала. Воздух твой граненый. В спальне тают горы Голубого дряхлого стекла.
Только в пальцах - роза или склянка, Адриатика зеленая, прости ! Что же ты молчишь, скажи, венецианка, Как от этой смерти праздничной уйти ?
Черный Веспер в зеркале мерцает, Все проходит, истина темна. Человек родится, жемчуг умирает, И Сусанна старцев ждать должна. 1920
* * *
Когда Психея-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес вослед за Персефоной, Слепая ласточка бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой.
Навстречу беженке спешит толпа теней, Товарку новую встречая причитаньем, И руки слабые ломают перед ней С недоумением и робким упованьем.
Кто держит зеркальце, кто баночку духов, Душа ведь женщина, ей нравятся безделки, И лес безлиственный прозрачных голосов Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.
И в нежной сутолке не зная, что начать, Душа не узнает прозрачные дубравы, Дохнет на зеркало и медлит передать Лепешку медную с туманной переправы. 1920
Ласточка
Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется На крыльях срезанных, с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется.
Не слышно птиц. Бессмертник не цветет, Прозрачны гривы табуна ночного, В сухой реке пустой челнок плывет, Среди кузнечиков беспамятствует слово.
И медленно растет как бы шатер иль храм, То вдруг прокинется безумной Антигоной, То мертвой ласточкой бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой.
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, И выпуклую радость узнаванья. Я так боюсь рыданья Аонид, Тумана, звона и зиянья.
А смертным власть дана любить и узнавать, Для них и звук в персты прольется, Но я забыл, что я хочу сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Все не о том прозрачная твердит, Все ласточка, подружка, Антигона... А на губах, как черный лед горит Стигийского воспоминанье звона. 1920
* * *
Возьми на радость из моих лвдоней Немного солнца и немного меда, Как нам велели пчелы Персефоны.
Не отвязать неприкрепленной лодки, Не услыхать в меха обутой тени, Не превозмочь в дремучей жизни страха.
Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчелы, Что умирают, вылетев из улья.
Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, Их родина - дремучий лес Тайгета, Их пища - время, медуница, мята.
Возьми ж на радость дикий мой подарок Невзрачное сухое ожерелье Из мертвых пчел, мед превративших в солнце. 1920
* * *
Чуть мерцает призрачная сцена, Хоры слабые теней, Захлестнула шелком Мельпомена Окна храмины своей. Черным табором стоят кареты, На дворе мороз трещит, Все космато - люди и предметы, И горячий снег хрустит.
Понемногу челядь разбирает Шуб медвежьих вороха. В суматохе бабочка летает. Розу кутают в меха. Модной пестряди кружки и мошки, Театральный легкий жар, А на улице мигают плошки И тяжелый валит пар.
Кучера измаялись от крика, И храпит и дышит тьма. Ничего, голубка Эвридика, Что у нас студеная зима. Слаще пенья итальянской речи Для меня родной язык, Ибо в нем таинственно лепечет Чужеземных арф родник.
Пахнет дымом белая овчина, От сугроба улица черна. Из блаженного, певучего притина К нам летит бессмертная весна. Чтобы вечно ария звучала: "Ты вернешься на зеленые луга", И живая ласточка упала На горячие снега. 1920
* * *
В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем, И блаженное, бессмысленное слово В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи, В бархате всемирной пустоты, Все поют блаженных жен родные очи, Все цветут бессмертные цветы.
Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой патруль во мгле промчится И кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь.
Слышу легкий театральный шорох И девическое "ах" И бессмертных роз огромный ворох У Киприды на руках. У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И блаженных жен родные руки Легкий пепел соберут.
Где-то грядки красные партера, Пышно взьиты шифоньерки лож, Заводная кукла офицера Не для черных душ и низменных святош... Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи В черном бархате всемирной пустоты. Все поют блаженных жен крутые плечи, А ночного солнца не заметишь ты. 1920
* * *
За то, что я руки твои не сумел удержать, За то, что я предал соленые нежные губы, Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать. Как я ненавижу пахучие древние срубы !
Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко, Никак не уляжется крови сухая возня, И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.
Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел ? Зачем преждевременно я от тебя оторвался ? Еще не рассеялся мрак и петух не пропел, Еще в древесину горячий топор не врезался.
Прозрачной слезой на стенах проступила смола, И чувствует город свои деревянные ребра, Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла, И трижды приснился мужьям соблазнительный образ.
Где милая Троя ? Где царский, где девичий дом ? Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник. И падают стрелы сухим деревянным дождем, И стрелы другие растут на земле, как орешник.
Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серою ласточкой утро в окно постучится, И медленный день, как в соломе проснувшийся вол, На стогнах, шершшавых от долгого сна, шевелится. 1920
* * *
Когда городская выходит на стогны луна, И медленно ей озаряется горд дремучий, И ночь нарастает, унынья и меди полна, И грубому времени воск уступает певучий,
И плачет кукушка на каменной башне своей, И бледная жница, сходящая в мир бездыханный, Тихонько шевелит огромные спицы теней И желтой соломой бросает на пол деревянный... 1920
* * *
Мне жалко, что теперь зима И комаров не слышно в доме, Но ты напомнила сама О легкомысленной соломе.
Стрекозы вьются в синеве, И ласточкой кружится мода; Корзиночка на голове Или напыщенная ода ?
Советовать я не берусь, И бесполезны отговорки, Но взбитых сливок вечен вкус И запах апельсинной корки.
Ты все толкуешь наобум, От этого ничуть не хуже, Что делать, самый нежный ум Весь помещается снаружи.
И ты пытаешься желток Взбивать рассерженною ложкой, Он побелел, он изнемог, И все-таки еще немножко.
И, право, не твоя вина, Зачем оценки и изнанки ? Ты как нарочно создана Для комедийной перебранки.
В тебе все дразнит, все поет, Как итальянская рулада. И маленький вишневй рот Сухого просит винограда.