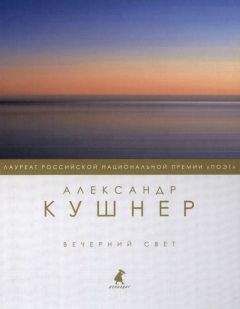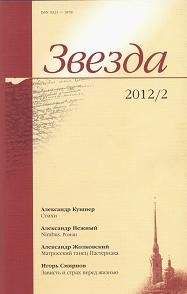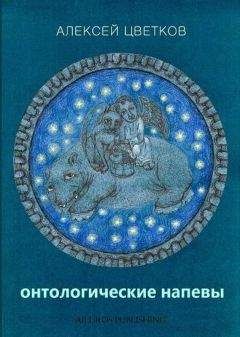Александр Кушнер - Античные мотивы (сборник)
«Даже если б жил ты на окраине империи…»
Даже если б жил ты на окраине империи,
Но богат был или знаменит,
Вызвал бы тебя на Капри как-нибудь Тиберий,
Предложил пройтись над морем: волны, ветер и гранит,
А тропа по скалам бы вилась винтообразно,
Вверх подняться легче, чем потом спуститься вниз,
И Тиберий разговор повел бы самый праздный,
Посмотреть просил бы на прибой, на кипарис,
Голову склонив по-бычьи, замолкал надолго,
А потом спросил бы: среди царских дочерей
В женском платье жил Ахилл, как бы в стогу иголка,
А какое имя он носил, скажи скорей.
Ах, не знаешь? Плохо, что не знаешь. А сирены
Пели песни, мог бы ты одну из них нам спеть?
Нет, не мог бы? Ну тогда пора тебе со сцены
Уходить. А чтобы ты не задавался впредь,
Полетай! – и двинул бы тебя плечом внезапно
Так, что ты с обрыва полетел бы головой
Вниз, по острым выступам, с задержкой, поэтапно
И успел подумать: всё пропало, боже мой!
«Куда-то подевав мобильный телефон…»
Куда-то подевав мобильный телефон,
Я номер наберу – и отзовется он
Из ящика стола, из куртки, с книжной полки,
Очнется, запоет, затерян, унесен,
Засунут и забыт, – и поиски недолги.
Я радуюсь, его, как в сказке, обретя,
Ведь мог бы и пропасть, как царское дитя,
Быть найденным другим, попасть в чужие руки…
Софокл бы оценил такой сюжет, хотя
Смутили бы его все эти наши штуки.
«Здесь травы так густы, а склоны так пологи…»
Здесь травы так густы, а склоны так пологи,
Что чувствуешь себя на сказочной стезе,
И хочется спросить у скромницы-дороги:
Ты тоже в Рим ведешь и бредишь им, как все?
Тогда велосипед я старый свой пришпорю,
Тогда не поверну, одумавшись, назад:
Я к Риму путь держу, а мимоездом – к морю —
Пристанищу стихий, убежищу наяд.
Прибытково, Межно – счастливые названья,
И, может быть, в веках им слава суждена:
Не надо громких слов, а было бы желанье
С дороги разглядеть другие времена.
Пространство, может быть, еще одна химера.
Влеки с холма на холм меня и вразуми:
Быть может, час езды отсюда до Гомера,
А время вообще придумано людьми?
«Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная…»
Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная, —
Это значит, что грекам жилось неплохо.
Подгоняла триеру волна морская,
В ней сидели гребцы, как в стручке гороха.
Налегай на весло, ничего, что трудно,
В порт придем – отдохнет твоя поясница.
А в краях залетейских мерцает скудно
Свет и не разглядеть в полумраке лица.
Я не знаю, какому еще народу
Так светило бы солнце и птицы пели,
А загробная, тусклая жизнь с исподу
Представлялась подобием узкой щели!
Как сказал Одиссею Ахилл, в неволе
Залетейской лишенный огня и мощи,
На земле хорошо, даже если в поле
Погоняешь вола, как простой подёнщик.
Так кому же мне верить – ему, герою,
Или тем, кто за смертной чертой последней
Видит царство с подсветкою золотою,
В этой жизни как в тесной топчась передней?
«Эти трое любуются первой ласточкой…»
Эти трое любуются первой ласточкой:
Муж с бородкою, юноша и подросток.
Это лучше, чем воинский быт палаточный,
Даже эпос троянский, такой громоздкий!
Что за чудная ваза краснофигурная!
Где суровость, безжалостность и свирепость?
Солнце чудится, видится даль лазурная.
Вообще это лирика, а не эпос!
И каким же сиянием вся пропитана,
И какую простую несет идею!
И как будто она на меня рассчитана,
Что когда-нибудь я залюбуюсь ею.
«Пока Сизиф спускается с горы…»
Пока Сизиф спускается с горы
За камнем, что скатился вновь под гору,
Он может отдохнуть от мошкары,
Увидеть всё, что вдруг предстанет взору,
Сорвать цветок, пусть это будет мак,
В горах пылают огненные маки,
На них не налюбуешься никак,
Шмели их обожают, работяги,
Сочувствующие Сизифу, им
Внушает уваженье труд Сизифа;
Еще он может морем кружевным
Полюбоваться с пеною у рифа,
А то, что это всё в стране теней
С Сизифом происходит, где ни маков,
Ни моря нет, неправда! Нам видней.
Сизиф – наш друг, и труд наш одинаков.
«А теперь он идет дорогой темной…»
Джону Малмстаду
А теперь он идет дорогой темной
В ту страну, из которой нет возврата, —
Было сказано с жалобою томной
Про воробышка, сдохшего когда-то.
Плачьте, музы! Но, может быть, дороги
Той не следует нам бояться слишком,
Если даже воробышек убогий
Проскакал раньше нас по ней вприпрыжку.
Проскакал – и назад не оглянулся,
Тенью стал – и мы тоже станем тенью.
Мне хотелось бы, чтобы улыбнулся
Тот, кто будет читать стихотворенье.
«Минерва спит, не спит ее сова…»
Л. Столовичу
Минерва спит, не спит ее сова,
Всё видит, слышит темными ночами,
Все шорохи, все вздохи, все слова,
Сверкая раскаленными очами,
Ни шепот не пропустит, ни смешок
И утром всё Минерве перескажет,
А та на голове ее пушок
Пригладит и к руке своей привяжет.
Минерва покровительствует тем,
Кто пишет, выступает на подмостках,
Создателям поэм и теорем,
Участье принимая в их набросках,
В их формулы вникая и ряды
Созвучий, поощряя мысль и чувство.
Сама она не любит темноты,
Но есть сова: тьма тоже часть искусства!
«На этом снимке я с Нероном…»
На этом снимке я с Нероном,
Как будто он мой лучший друг.
Он смотрит взглядом полусонным,
Но может рассердиться вдруг.
И в самом деле, можно ль к бюсту
Так подходить, сниматься с ним?
А вдруг проснется злое чувство —
А в гневе он неукротим.
И разве я люблю Нерона?
Он в римской тоге, я в плаще,
Всё это странно, беззаконно
И беспринципно вообще.
И всё, что мне о нем известно,
Такой кошмар, сплошное зло!
А вот поди ж ты, сняться лестно
С ним – столько времени прошло!
«Вернём, – сказали боги, – Одиссея…»
Вернем, – сказали боги, – Одиссея
На родину: придется быть добрее,
Иначе он туда вернется сам.
Придумать трудно что-нибудь смешнее,
И шутка эта так понятна нам!
О Господи, как гулки эти гроты,
Какие щели, каменные своды,
Циклопы, лотофаги, Полифем,
Тоска и страх, досадные просчеты,
Но дуб кипит и солнце светит всем!
Плыть за море, разить мечом троянца,
Боясь богов, сгорая от стыда,
Мрачнеть, но знать: и боги нас боятся.
Иначе можно только затеряться,
В Итаку не вернуться никогда!
«Не бойся ласточки, она не Филомела…»
Не бойся ласточки, она не Филомела.
И соловей в кустах не Прокна – соловей.
Нам до Овидиевых превращений дела
Нет, и удод – удод, а вовсе не Терей,
Да и не видел я удода, что за птица?
Кто рассказал бы мне, как выглядит удод?
При всём желании ни в камень превратиться
Нельзя, ни в дерево: и мир, и век не тот.
А вот Овидия и в самом деле жалко.
За что он изгнан был к сарматам, на Дунай?
О том ни пифия не скажет, ни гадалка.
Был вызван к Августу и сослан в дикий край.
Должно быть, что-то знал об Августе такое,
Что лучше было бы не знать, и тайну ту
Хотелось Августу причерноморской мглою
Накрыть, зажать ее в Овидиевом рту.
Два стихотворения
1
Мечты о бессмертье тем более странны,
Что умерли все, даже вечные боги,
Имевшие столь грандиозные планы,
Внушавшие столь вдохновенные строки,
Умевшие на море вызвать волненье,
Корабль потопить, если он почему-то
Не нравился им, предоставив спасенье
Всего одному из команды, как чудо.
Мечты о бессмертье тем более дики,
Что выцвело, высохло, вымерло столько
Воистину славных и вправду великих,
Дойдя в виде торса до нас и обломка,
И трудно им встать с каменистого ложа,
Уйти от душицы и чертополоха,
Бессмертию может быть тоже положен
Предел – и, наверное, это неплохо!
2
Как страшно подумать, – сказал я на зное
Июньском, – подумать, – сказал, – о зиме!
– А ты и не думай! – сказала, за мною
Идя по заросшей травой колее.
– Не думай, – сказала, – смотри на фиалки,
Еще, синеглазые, не отцвели!
Они ж не растут, не цветут из-под палки,
Им нравится быть украшеньем земли.
Они же не портят себе настроенье.
Какая зима? Не бывает зимы!
Смерть тоже ошибка, недоразуменье,
Обмолвка… Запомнить бы это мгновенье:
Однажды бессмертными были и мы.
«В “Илиаде” мне Гектора жаль…»