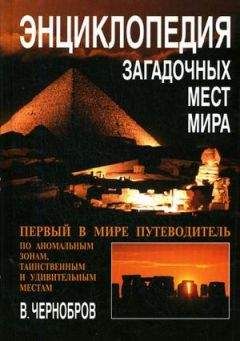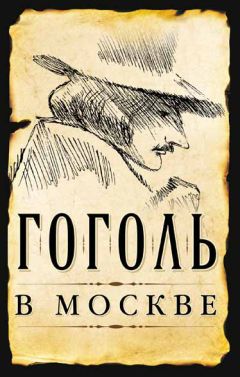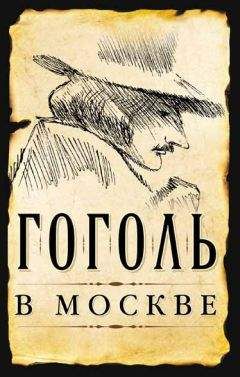Булат Окуджава - Под управлением любви
Прощальная песенка волковских актеров
Прощай, прощай, прощай, прощай, ярославская
погода,
стены белые, нарисованные на синих небесах.
Тянет душу, сердце рвет, заманивает природа,
слезы чистые, прозрачные не высыхают на глазах.
Прощай, прощай, прощай, прощай, лесов могучих
позолота!
Колесница неукротимая за облаком гремит.
Ожидают нас, зажмурившись, оловянные болота,
петербургский неразговорчивый таинственный
гранит.
Прощай, прощай, прощай, прощай, деревянного
сарая
пыль подмостков, дух рогожи! Настало времечко
гореть.
Видать, времечко настало, настало времечко, сгорая,
настало времечко, сгорая, ни о чем не сожалеть…
«Вечера французской песни…»
Александру Галичу,
Владимиру Высоцкому,
Юлию Киму
Вечера французской песни
нынче в моде и в цене.
А своих-то нет, хоть тресни…
Где же наши шансонье?
Пой, француз, тебе и карты,
ты – француз, ты вдалеке.
Дело в том, что наши барды
проживают в бардаке —
в том, в котором нет пророка,
чуть явись – затопчут след.
Пой, француз, ведь ты далеко,
и к тебе претензий нет.
Чем начальству ты приятен?
Тем, что текст твой непонятен.
Если ж нужен перевод,
переводчик – наш молодчик —
как прикажут – переврет.
Ты поешь и ты танцуешь,
ты смакуешь каждый стих,
если ж даже критикуешь —
ведь не наших, а своих.
Пой, француз, с тебя нет спроса,
ты ведь гость, чего грешить…
Остальное – наша проза,
не тебе ее решить.
«От нервов ли, от напряженья…»
От нервов ли, от напряженья,
от жизни, что вся наугад,
мне слышится крови движенье,
как будто далекий набат.
Мне слышится пламени рокот.
Пожар полыхает земной.
И тут ни багры не помогут,
ни струи воды ледяной.
Сокрытый от праведных взоров,
разлит, словно море, в душе,
и бравая брань брандмайоров,
увы, бесполезна уже.
Он с каждой минутой все пуще,
все явственней он и слышней
над лесом, над лугом, над пущей,
над улицей жизни моей.
«Все забуду про тревогу…»
Все забуду про тревогу,
про пожары и про лед.
Все припомню понемногу,
когда времечко придет.
Все оставлю за порогом,
чтоб резвиться без хлопот.
Все сойдется в доме строгом,
когда времечко придет.
Все, что, кажется, бесплодно
разбазариваем мы,
когда времени угодно,
вдруг проявится из тьмы.
Никому уже не вычесть
из реестра своего
пусть ничтожных тех количеств,
что пришлись на одного.
Пусть, хоть много или мало,
составляющих судьбу,
без которых не пристало
место занимать в гробу.
«На полянке разминаются оркестры духовые…»
На полянке разминаются оркестры духовые
и играют марш известный неизвестно для чего.
Мы пока еще все целы, мы покуда все живые,
а когда нагрянет утро – там посмотрим кто кого.
И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает,
у него глаза большие, у него победный вид…
Но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает,
он за пазухою письма треугольные хранит.
Лейтенантик моложавый (он назначен к нам
комбатом)
смотрит в карту полевую, верит в чудо и в успех.
А солдат со мною рядом называет меня братом:
кровь, кипящая по жилам, нынче общая для всех.
Смолкли гордые оркестры – это главная примета.
Наготове все запасы: крови, брани и свинца…
Сколько там минут осталось… три-четыре до рассвета,
три-четыре до победы… три-четыре до конца.
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве
Посвящаю Антону
Упрямо я твержу с давнишних пор:
меня воспитывал арбатский двор,
все в нем, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви. Что в том дурного?
На фоне непросохшего белья
руины человечьего жилья,
крутые плечи дворника Алима…
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
усы прокуренные шевеля,
мой соплеменник пролетает мимо.
Он маленький, немытый и рябой
и выглядит растерянным и пьющим,
но суть его – пространство и разбой
в кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клевреты топчутся в крови…
Так где же почва для твоей любви? —
вы спросите с сомненьем, вам присущим.
Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз.
Еще загадкой манит подворотня.
Еще я жизнь сверяю по двору
и не подозреваю, что умру,
как в том не сомневаюсь я сегодня.
Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.
Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество… И мы на все готовы.
Что мне сказать? На все готов я был.
Мой страшный век меня почти добил,
но речь не обо мне – она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошить на мякине.
Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен…
А глина ведь не вечный матерьял,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.
«На полотне у Аллы Беляковой…»
На полотне у Аллы Беляковой,
где темный сад немного бестолковый,
где из окна, дразня и завораживая,
выплескивается пятно оранжевое,
где все имеет первозданный вид
и ветви как зеленая оправа,
где кто-то бодрствует, а кто-то спит
в том домике, изображенном справа, —
там я бываю запросто в гостях,
и надобности нет о новостях
выспрашивать дотошно и лукаво.
По лесенке скрипучей в сад схожу
и выгляжу, быть может, даже хмурым;
потом сажусь и за столом сижу
под лампою с зеленым абажуром.
Я на виду, я чем-то удручен,
а может, восхищен, но, тем не мене,
никто, никто не ведает, о чем
я размышляю в данное мгновенье,
совсем один в той странной тишине,
которою вселенная объята…
И что-то есть, наверное, во мне
от старого глехо[2] и от Сократа.
Дерзость, или Разговор перед боем
– Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?
– Господин генерал, вспомнились амуры —
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
– Господин лейтенант, нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы всё про баб!
– Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б.
– Господин лейтенант, не к добру все это!
Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать…
– Господин генерал, будет вам победа,
да придется ли мне с вами пировать?
– На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество…
– Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.
– Черт возьми, лейтенант, да что это с вами?
Где же воинский долг, ненависть к врагу?!.
– Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу…
– Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счеты с тобой трибунал сведет…
– Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.
Мое поколенье
Всего на одно лишь мгновенье
раскрылись две створки ворот,
и вышло мое поколенье
в свой самый последний поход.
Да, вышло мое поколенье,
усталые сдвоив ряды.
Непросто, наверно, движенье
в преддверии новой беды.
Да, это мое поколенье,
и знамени скромен наряд,
но риск, и любовь, и терпенье
на наших погонах горят.
Гудят небеса грозовые,
сливаются слезы и смех.
Все – маршалы, все – рядовые,
и общая участь на всех.
«В больничное гляну окно, а там, за окном, – Пироговка…»
В больничное гляну окно, а там, за окном, —
Пироговка.
И жизнь, и судьба, и надежда, и горечь, и слава,
и дым.
Мне старость уже не страшна, но все-таки как-то
неловко
мешать вашей праздничной рыси неловким галопом
своим.
А там, за широким окном, за хрупким, прозрачным,
больничным,
вершится житейский порядок, единый во все
времена:
то утро с кефиром ночным, то вечер с вареньем
клубничным,
и все это с плачем и смехом, и с пеной, взлетевшей
со дна.
В больничное гляну окно, а там, за окошком, —
аллея,
клубится февральское утро, и санный рождается
путь.
С собой ничего не возьмешь, лишь выронить можно,
жалея,
но есть кого вспомнить с проклятьем, кого и добром
помянуть.
В больничное гляну окно – узнаю, ч т о может
начаться,
и чем, наконец, завершится по этому свету ходьба,
что завтра случится, пойму… И в сердце мое
постучатся
надежда, любовь, и терпенье, и слава, и дым,
и судьба.
«Что-то знает Шура Лифшиц…»