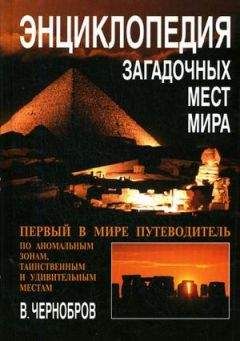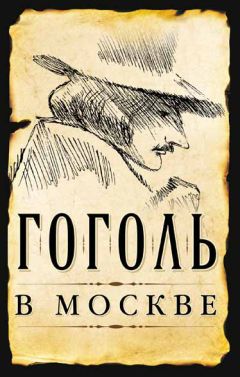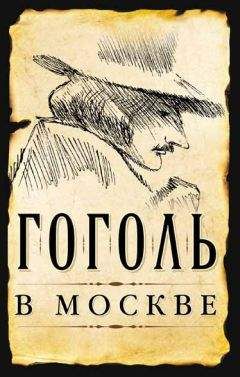Булат Окуджава - Под управлением любви
«Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел…»
Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел.
Узкоколейка санная
коробится манерно.
Неужто это то, чего я так хотел?
А впрочем, это самое
из нужного, наверно.
Вот обрубают лед ленивым топором,
и ручейками хилыми
стекает он в овраги.
А я пишу стихи отточенным пером
лиловыми чернилами
на меловой бумаге.
Во всем видны судьба и пламень, и порыв.
И с замятями снежными
разделаться несложно.
Надеюсь, что не зря все, чем я жил и жив…
И я живу надеждами.
Иначе невозможно.
Перед телевизором
Слишком много всяких танков, всяких пушек
и солдат.
И военные оркестры слишком яростно гремят,
и седые генералы, хоть не сами пули льют —
но за скорые победы с наслажденьем водку пьют.
Я один. А их так много, и они горды собой,
и военные оркестры заглушают голос мой.
«Кого бояться и чего стесняться?..»
Кого бояться и чего стесняться?
Все наперед расписано уже.
Когда придется с критиком стреляться,
возьму старинный лефоше[1].
За позабытым Спасом, что на Пе́сках,
разметим смертный путь.
Средь аргументов между нами веских, —
ему прицелюсь в грудь.
Вот он стоит, похожий на лакея,
уставясь трехлинеечкой в меня,
хозяин и Арбата, и Лицея,
и прошлого, и нынешнего дня.
Он не спешит, заступничек народный,
на мушку жизнь мою берет,
и лефоше мой, слишком благородный,
не выстрелит, я знаю наперед.
Я как последний юнкер безоружен,
в лакейскую затею вовлечен…
Но вот курок нажат, Арбат разрушен,
кто прозевал свой выстрел – обречен.
Там, за спиной – чугунная ограда
кругла как мученический венец…
А благородство – это ль не награда
в конце концов за поздний сей конец?
«Все глуше музыка души…»
Все глуше музыка души,
все звонче музыка атаки.
Но ты об этом не спеши:
не обмануться бы во мраке,
что звонче музыка атаки,
что глуше музыка души.
Чем громче музыка атак,
тем слаще мед огней домашних.
И это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.
Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то, —
чем звонче музыка побед,
тем горше каждая утрата,
еще вернее, чем когда-то,
из глубины ушедших лет.
И это все у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем выше музыка любви,
тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем чище музыка любви.
«Под Мамонтовкой жгут костры…»
Под Мамонтовкой жгут костры
бродяги иль студенты…
Ах, годы детства так пестры,
как кадры киноленты!
Еще не найдена стезя
меж адом и меж раем,
и все пока в живых друзья,
и мы в войну играем.
Еще придет пора разлук
и жажда побороться.
Еще все выпадет из рук —
лишь мелочь подберется.
Но это все потом, потом,
когда-нибудь, быть может.
И нету сведений о том,
ч т о Время нам предложит.
Еще придет тот главный час
с двенадцатым ударом,
когда добром помянут нас
и проклянут задаром.
Еще повеет главный час
разлукой ледяною,
когда останутся от нас
лишь крылья за спиною.
«Как наш двор ни обижали – он в классической поре…»
Как наш двор ни обижали – он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться,
хоть он и безоружен.
А там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.
Как с гитарой ни боролись —
распалялся струнный звон.
Как вино стихов ни портили —
все крепче становилось.
А кто сначала вышел вон,
а кто потом украл вагон —
все теперь перемешалось, все объединилось.
Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи елея…
А ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают больнее – тем они сильнее.
Что ж печалиться напрасно: нынче слезы
лей – не лей,
но запомним хорошенечко и повод, и причину…
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздадут по чину.
Мой почтальон
Всяк почтальон в этом мире, что общеизвестно,
корреспонденцию носит и в двери стучит.
Мой почтальон из другого какого-то теста:
писем ко мне не приносит, а только молчит.
Топчется в темной прихожей в молчании строгом,
круг оттоптал на пороге у самых дверей.
Радостный день и объятия там, за порогом,
горестный мрак и утрата в пещере моей.
Мой почтальон презирает меня и боится,
жаждет скорей от меня отбояриться, плут.
Там, за порогом, мелькают счастливые лица,
там ни о чем не жалеют и писем не ждут.
Вот наконец, изгибаясь и кланяясь, что ли,
будто спасаясь, спешит по обратной тропе.
Как он вздыхает легко, оказавшись на воле,
как ни о чем не жалеет, теряясь в толпе.
«По Грузинскому валу воинственно ставя носок…»
По Грузинскому валу воинственно ставя носок,
ты как будто в полете, и твой золотой голосок
в простодушные уши продрогших прохожих струится.
Но хотя он возвышен, и ярок, и чист, и высок,
не успеешь моргнуть – а уже просочился в песок,
и другими уже голосами гордится столица.
Как чиновна она, неприступна она, брат, с крыльца,
и не сходит уже позолота с ее, брат, лица,
так что в тесном квадрате двора поспевай, брат,
вертеться.
Где уж годы беречь, если сыплются дождичком дни,
и тяжки и горьки, как свинцовые пульки, они,
и ложатся один за другим возле самого сердца.
И фортуна твоя, подбоченясь, глядит из окна,
ослепленная мыслью, что ей перспектива видна
меж домов и дворов… Будто это и есть перспектива.
И дорога твоя от рожденья – то мир, то война,
и привычные с детства горят вдоль нее письмена:
то «Вернись!», то «Ступай!», то «Прости!»,
то «Прощай!», то «Счастливо!».
По Грузинскому валу к финалу рабочего дня,
заломив козырек, ошалев от обид и вранья,
независимый облик храня, прогуляться неплохо…
Навостриться бы мне разводить своих братьев
плечом,
научиться бы мне, чтобы так не жалеть ни о чем,
да, как видно, уже не успеть до последнего вздоха.
«Пока от вранья не отвыкнем…»
Пока от вранья не отвыкнем
традиции древней назло,
покуда не всхлипнем, не вскрикнем:
куда это нас занесло?! —
пока покаянного слова
не выдохнет впалая грудь,
придется нам снова и снова
холопскую лямку тянуть.
«Шестидесятники развенчивать усатого должны…»
Лену Карпинскому
Шестидесятники развенчивать усатого должны,
и им для этого особые приказы не нужны:
они и сами, словно кони боевые,
и бьют копытами, пока еще живые.
Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех?
Не зря кровавые отметины видны на них на всех.
Они хлебнули этих бед не понаслышке.
Им все маячило – от высылки до вышки.
Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг,
и в этом их предназначение, особый смысл и толк.
Ну а приказчики, влюбленные в деспота,
пусть огрызаются – такая их работа.
Шестидесятникам не кажется, что жизнь
сгорела зря:
они поставили на родину, короче говоря.
Она, конечно, в суете о них забудет,
но ведь одна она. Другой уже не будет.
«Славная компания… Что же мне решить?..»
Славная компания… Что же мне решить?
Сам я непьющий, – друзья подливают.
Умирать не страшно – страшно не жить.
Вот какие мысли меня одолевают.
Впрочем, эти мысли высказал Вольтер.
Надо иногда почитывать Вольтера.
Запад, конечно, для нас не пример.
Впрочем, я не вижу лучшего примера.
Памяти брата моего Гиви
На откосе, на обрыве
нашей жизни удалой
ты не удержался, Гиви,
стройный, добрый, молодой.
Кто столкнул тебя с откоса,
не сказав тебе «прощай»,
будто рюмочку – с подноса,
будто вправду невзначай?
Мы давно отвоевали.
Кто же справился с тобой?
Рок ли, время ли, молва ли,
вождь ли, мертвый и рябой?
Он и нынче, как ни странно —
похоронен и отпет, —
усмехается с экрана,
а тебя в помине нет.
Стих на сопках Магадана
лай сторожевых собак,
но твоя большая рана
не рубцуется никак.
И кого теперь с откоса
по ранжиру за тобой?..
Спи, мой брат беловолосый,
стройный, добрый, молодой.
Гимн уюту
А. Пугачевой
Слава и честь самовару —
первенцу наших утех!
Но помяну и гитару —
главную даму из всех.
Вот он – хозяин уюта,
золотом светится медь.
Рядом – хозяйка, как будто
впрямь собирается спеть.
Он запыхтит, затрясется,
выбросит пар к потолку —
тотчас она отзовется
где-нибудь здесь, в уголку.
Он не жалеет водицы
в синие чашки с каймой, —
значит, пора насладиться
пеньем хозяйки самой.
Бог не обидел талантом,
да и хозяин как бог,
вторит хозяйке дискантом,
сам же глядит за порог:
там, за порогом, такое,
что не опишешь всего…
Царствуй, хозяин покоя:
праведней нет ничего.
Слава и честь самовару!
Но не забудем, о нет,
той, что дана ему в пару,
талию и силуэт.
Врут, что она увядает.
Время ее не берет.
Плачет она и сгорает,
снова из пепла встает.
Пой же, и все тебе будет:
сахар, объятья и суд,
и проклянут тебя люди,
и до небес вознесут.
Пойте же, будет по чести
воздано вам за уют…
Вот и поют они вместе,
плачут и снова поют.
«Не сольются никогда зимы долгие и лета…»