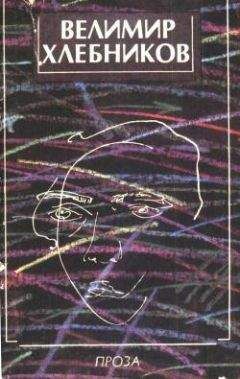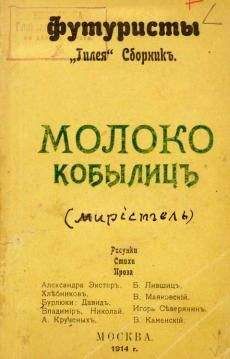Велимир Хлебников - Ладомир. Поэмы.
А. Волков. «Гранатовая чайхана». Фрагмент.
5«Мы, ответренные Каспием,
Великаны алокожие,
За свободу в этот час поем,
Славя волю и безбожие.
Пусть замолкнет тот, кто нанят,
Чья присяга морю лжива,
А морская песня грянет.
На устах молчит нажива».
Ветер, ну?
Пастух очей стоит поодаль.
Белые очи богов по небу плыли!
Пила белых гор. Пела моряна.
Землею напета пластина.
Глаза казни
Гонит ветер овцами гор
По выгону мира.
Над кремневой равниной овцами гор,
Темных гор пастись в городах.
Пастух людских пыток поодаль стоит,
Снежные мысли,
Белые речки.
Снежные думы
Каменного мозга.
Синего лба
Круч кремневласых неясные очи.
Пытки за снежною веткой шиповника.
Ветер — пастух божьих очей.
Гурриэт-эль-Айн,
Тахирэ, сама
Затянула на себе концы веревок,
Спросив палачей, повернув голову:
«Больше ничего?» —
«Вожжи и олово
В грудь жениху!»
Это ее мертвое тело — снежные горы.
Темные ноздри гор
Жадно втягивают
Запах Разина,
Ветер с моря.
Я еду.
Ветер пыток.
Полк узеньких улиц.
Я исхлестан камнями!
Булыжные лети
Исхлестали глаза!
Пощады небо не даст!
Пулей пытливых взглядов
Тысячи раз я пророгожен.
Высекли плечи
Булыжные плети!
Лишь башня из синих камней на мосту
Смотрела богоматерью.
Серые стены стегали
Вечерний рынок.
Вороньи яйца!
«Один — один шай» — «Один — один
шай».
Лёви, лови!
Пудри роскоши синей,
Дикие болота царевичи,
Синие негою
Золото масла крышей покрыли,
Чтобы в ней жили глаз воробьи
(Масла коровьего вымени белых небес,
снега и инея).
Костры. Огни в глиняных плошках.
Мертвая голова быка у стены. Быка несут
на палках.
Дикие тени ночей. Напитки в кувшинах
ледяные.
В шалях воины.
Лотки со льдом, бобы и жмыхи.
И залежи кувшинов голубых,
Как камнеломни синевы,
Чей камень полон синевы,
Здесь свалка неба голубого,
Зеленые куры, красных яиц скорлупа.
И в полушариях черных, как черепа,
Блистает глазами толпа, в четки стуча,
Из улицы темной: «Русски не знаем,
Зидарастуй, тобаричи».
Дети пекут улыбки больших глаз
В жаровнях темных ресниц
И со смехом дают случайным прохожим.
Калека-мальчик руки-нити
Тянул к прохожим по-паучьи у мечети.
Вином запечатанным
С белой головкой над черным стеклом
Жены черные шли.
Кто отпечатает?
Я — лениво.
Я кресало для огнива
Животно испуганных глаз, глупо прелестных
черною прелестью,
Под покрывалом
От страха спасителем.
Белой чахотки
Забрало белеет у черных теней.
Белые прутья на черные тени спускались —
смерти решетка.
Окошка черной темницы решеткой.
Тише святая святых! Женщин идущих
Востока.
Полночь. Решт. Рыжие прыжки кошек
С двойкой зеленой кладбищенских глаз
Дразнят собак.
Гау, гау! га-га! га-га!
Те отвечали лениво.
Это черта сыны прыгали в садах.
На голые шары черепов, бритые головы,
С черным хохлом где-то сбоку (дыма черное
облако)
Весь вечер смотрели мы.
Прокаженные жены, подняв покрывало,
Звали людей: «Приди, отдохни!
Усни на груди у меня».
Страна, где все люди Адамы,
Корни наружу небесного рая!
Где деньги — «пуль»,
И в горном ущелье
Над водопадом гремучим
В белом белье ходят ханы
Тянуть лососей
Частою сеткой на ручке.
И все на ша: шах, шай, шире.
Где молчаливому месяцу
Дано самое звонкое имя
Ай,
В этой стране я!
Весна морю дает
Ожерелье из мертвых сомов —
Трупами устлан весь берег.
Собакам, провидцам, пророкам
И мне
Морем предложен обед
Рыбы уснувшей
На скатерти берега.
Будь человек! Не стыдись! отдыхай,
почивай!
Кроме моря, здесь нет никого.
Три мешочка икры
Я нашел и испек,
И сыт!
Вороны, каркая, — в небо!
«Упокой, господи» и «Вечную память»
Пело море
Тухлым собакам.
В этой стране
Алых чернил взаймы у крови, — дружеский
долг,—
Время берет около Троицы,
Когда алым пухом
Алеют леса-недотроги.
И золотые чернила весны
В закат опрокинуты, в немилости,
И малиновый лес у
Сменяет зеленый.
В этой стране собаки не лают,
Если ночью ногою наступишь на них,
Кротки и тихи
Большие собаки.
Тебе люди шелка не дадут,—
О пророк! И дереву знаменем быть:
Пальцы кровавые лета запечатлены на зеленых
листах,
Когда недотрогу неженку-розу беру знаменем.
Сегодня я в гостях у моря,
Скатерть широка песчаная,
Собака поодаль.
Ищем. Грызем.
Смотрим друг на друга.
Обедал икрою и мелкой рыбешкой.
Хорошо! Хуже в гостях у людей!
Из-за забора: «Урус дервиш, дервиш урус!» —
Десятки раз крикнул мне мальчик.
Косматый лев, с глазами вашего знакомого,
Кривым мечом
Кому-то угрожал — заката сторож,
И солнце перезревшей девой
(Верно, сладкое любит варенье)
Ласково закатилось на львиное плечо.
Среди зеленых изразцов,
Среди зеленых изразцов!
Хан в чистом белье
Нюхал алый цветок, сладко втягивал
в ноздри запах цветка,
Жадно глазами даль созерцая.
«Русски не знай — плёхо!
Шалтай-балтай не надо, зачем? плёхо!
Учитель, давай
Столько пальцев и столько (пятьдесят лет)
Азия русская.
Россия первая, учитель харяшо.
Толстой большой человек, да, да, русский
дервиш!
А Зардешт, а! харяшо!»
И сагиб, пьянея, алый нюхал цветок,
Белый и босой,
И смотрел на синие дальние горы.
Крыльцо перед горами в коврах и горах
винтовок
Выше предков могилы.
А рядом пятку чесали сыну его:
Он хохотал,
Стараясь ногою попасть слугам в лицо.
Тоже он был в одном белье.
По саду ханы ходят беспечно в белье
Или копают заступом мирно
Огород капусты.
«Беботву вевять»,—
Славка запела.
Булыжники собраны в круг,
Гладка, как скатерть, долина,
Выметен начисто пол ущелья:
Из глазу не надо соринки.
Деревья в середке булыжных венков,
Черепами людей белеют дома.
Хворост на палках.
Там чай-хане пустыни. Черные вишни-соблазны
на удочке тянут голодных глаза.
Армянские дети пугливы.
Сотнями сказочных лбов
Клубятся, пузырятся в борьбе за дорогу
Корни смоковницы
(Я на них спал)
И в землю уходят. Громадным дуплом
Настежь открыта счетоводная книга столетий.
Ствол (шире коня поперек), пузырясь,
Подымал над собой тучу зеленую листьев
и веток,
Градом ветвей стекая к корням,
Ливень дерева сверху пролился
В корни и землю, внедряясь в подземную плоть.
Ячейками сети срастались глухою петлею.
И листья, певцы того, что нет,
Младшие ветви и старшие
И юношей толпы — матери держат старые руки.
Чертеж? или дерево?
Снимаясь с корнями, дерево капало вниз
и текло древесною влагой
И медленном ливне столетий.
Здесь я спал изнемогший.
Полые кони паслися на лужайке оседланны.
«Наше дитю! Вот тебе ужин, садись!» —
Крикнул военный, с русской службы бежавший.
Чай, вишни и рис.
Целых два дня я питался лесной ежевикой.
«Пуль» в эти дни я не имел, шел пеший.
«Беботву вевять», — славка поет!
Чудищ видений ночей черные призраки,
Черные львы.
Плясунья, шалунья вскочила на дерево,
Стоит на носке, другую, в колене согнув,
занесла над головой,
И согнута в локте рука,
Кружев черен наряд. Сколько призраков.
Длинная игла дикобраза блестит в лучах Ая.
Ниткой перо примотаю и стану писать новые
песни.
Очень устал. Со мною винтовка и рукописи.
Лает лиса за кустами,
Где развилок дорог поперечных, живою былиной
Лег на самой середке дороги, по-богатырски
руки раскинул.
Не ночлег, — а живая былина Онеги.
Звезды смотрят в душу с черного неба.
Ружье и немного колосьев — подушка усталому.
Сразу заснул. Проснулся, смотрю — кругом надо
мною
На корточках дюжина воинов.
Курят, молчат, размышляют. «По-русски
не знай
Покрытые роскошью будущих выстрелов,
Что-то думают. За плечами винтовки.
Груди в широкой броне из зарядов.
«Пойдем». Повели. Накормили, дали курить
голодному рту.
И чудо — утром вернули ружье. Отпустили.
Ломоть сыра давал мне кардаш,
Жалко смотря на меня.
— Садись, Гуль-мулла.
Черный горячий кипяток, брызнул мне в лицо.
— Черной воды? Нет, — посмотрел Али-Магомет, засмеялся:
— Я знаю, ты кто.
— Кто?
— Гуль-мулла. — Священник цветов?
— Да-да-да.
Смеется, гребет.
Мы несемся в зеркальном заливе
Около тучи снастей и узорных чудовищ
с телом железным.
— Лодка есть,
Товарищ Гуль-мулла! Садись, повезем!
Денег нет? Ничего.
Так повезем! Садись! —
Наперерыв говорили киржимы.
Я сажусь к старику. Он добродушен и красен,
о Турции часто ноет.
Весла шуметь. Баклан полетел.
Из Энзели мы едем в Казьян.
Я счастье даю? Почему так охотно возят меня?
Нету почетнее в Персии
Быть Гуль-муллой,
Казначеем чернил золотых у весны
В первый день месяца Ай.
Крикнуть балуя Ай,
Бледному месяцу Ай,
Справа увидев.
Лету — крови своей отпустить,
А весне — золотых волос.
Я каждый день лежу на песке,
Засыпая на нем.
1921