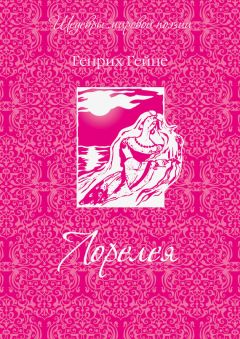Генрих Гейне - Флорентийские ночи
Сознаюсь вам, Мария, если мне в Англии вес приходилось не по вкусу, ни кухня, ни люди, то отчасти вина
----------------------------
1 Площади Великого Герцога (ит.).
во мне самом. Я привез туда с родины немалый занпс хандры и ждал отвлечения у народа, который и сам-'п" одолевает скуку лишь в водовороте политической и коммерческой деятельности. Совершенство машин, повсюду применяемых здесь и во многом вытесняющих человека, тоже наводило на меня жуть; замысловатая суетня колес, стержней, цилиндров и тысячи мелких крючочков, штифтиков и зубчиков, вращающихся с какой-то даже сладострастной стремительностью, вселяла в меня ужас. Определенность, точность, размеренность и пунктуальность в жизни англичан не менее запугала меня; ибо как английские машины уподобились для нас людям, так люди в Англии представляются нам машинами. Да, дерево, железо и медь завладели гам мыслью людей и как будто обезумели от избытка мыслей, а утративший способность мыслить человек, точно бездушный призрак, совершенно машинально выполняет вошедшие в привычку дела, в назначенное время пожирает бифштекс, держит парламентские речи, чистит ногти, взбирается в почтовый дилижанс или вешается.
Вы без труда поймете, как день ото дня росло во мне тягостное чувство. Но ничто не сравнится с тем душевным мраком, который обуял меня, когда однажды под вечер я стоял на мосту Ватерлоо и смотрел в воды Темзы. Мне чудилось, будто в них отражается моя душа со всеми своими ранами, будто смотрит мне навстречу из воды... А в памяти всплывали самые горестные события... Я думал о розе, которую постоянно поливали уксусом, отчего она утратила свой сладостный аромат и увяла до времени. Я думал о заблудившемся мотыльке: всходивший на Монблан натуралист увидел, как он один-одинешенек бьется между ледяных стен... Я думал о ручной мартышке, которая так сдружилась с людьми, что играла и обедала с ними, но как-то раз за столом узнала в миске с жарким своего собственного мартышонка, схватила его, помчалась с ним в лес и никогда больше не показывалась своим друзьям людям... Ах, сердце у меня сжалось такой болью, что из глаз неудержимо хлынули жгучие слезы. Они падали вниз, в Темзу, и уплывали прочь, в безбрежное море, а оно поглотило уже много человеческих слез, даже не приметив их!
В это мгновение случилось так, что странная музыка пробудила меня от мрачных дум, и, оглянувшись, я заметил кучку людей, которые, как видно, столпились вокруг занимательного зрелища. Я подошел поближе и увидел семейство артистов, которое составляли следующие четыре персонажа.
Во-первых, низенькая приземистая женщина, одетая во все черное, с маленькой головкой и огромным, толстым, выпирающим животом. На животе висел Г.оль-шущий барабан, в который она нещадно колотила.
Во-вторых, карлик, наряженный маркизом былых времен, в расшитом кафтане, большом пудреном парике, а ножки и ручки у него были тонюсенькие, и он, пря гап-цовывая, бил в треугольник.
В-третьих, молоденькая девушка лег пятна/таги в тесно прилегающей кофточке синего полосатого шелка и широких, тоже синих, полосатых панталонах. Это выло грациозное, воздушное создание. Лицо классически прекрасное. Благородный прямой нос, пленительно изогнутые губки, нежно-округлый подбородок, солнечно-золотистый цвет лица, блестящие черные волосы, уложенные волнами на висках. Так стояла она, стройная и серьезная, даже хмурая, и смотрела на четвертого персонажа труппы, который как раз демонслрировал свое мастерство.
Этот четвертый персонаж был ученый пес, подающий большие надежды, весьма перспективный пудель,-- к величайшему восторгу английской публики, он только что сложил из придвинутых ему деревянных букв имя лорда Веллингтона, присовокупив весьма лестный эпитет "героя".
Так как пес, судя по его одухотворенной наружности, не был английским животным, а вместе с тремя остальными персонажами прибыл из Франции, сыиы Альбиона радовались, что их великий полководец хотя бы у французских собак добился того признания, в котором так .постыдно отказывали ему остальные дети Франции.
В самом деле, труппу составляли французы, и карлик, отрекомендовавшись как мосье Тюрлютю, принялся балагурить по-французски, да еще с такими бурными жестами, что злополучные англичане шире обычного раскрыли рты и ноздри. Временами, сделав передышку, он принимался кричать петухом, и это кукареканье, а также имена множества императоров, королей и князей, которые он вкрапливал в свои речи, было единственным, что понимали злополучные слушатели. А этих князей, королей и государей он превозносил как своих друзей и покровителей. По его уверениям, уже восьмилетним мальчиком он имел длинную беседу с блаженной памяти королем Людовиком Шестнадцатым, каковой и в дальнейшем при сложных обстоятельствах непременно просил у него совета. От бурь революции он, наравне со многими другими, спасся бегством и лишь в эпоху Империи воротился в свое возлюбленное отечество, дабы разделить славу великой нации. Наполеон, по его словам, недолюбливал его, зато его святейшество папа Пий Седьмой чуть ли не причислил его к лику святых. Царь Александр одаривал его конфетками, а супруга принца Вильгельма фон Киритц всегда саживала его к себе на колени. С самых малых лет он жил исключительно в обществе монархов, да и нынешние государи, можно сказать, росли вместе с ним, он считает их себе ровней и надевает траур всякий раз, как кто-нибудь из них переселяется в лучший мир. После столь высокопарных слов он запел петухом.
Мосье Тюрлютю поистине был одним из забавнейших карликов, каких мне только доводилось видеть: морщинистое старческое личико составляло курьезный контраст с ребячески миниатюрным тельцем, и весь он курьезнейшим образом контрастировал с теми фокусами, которые проделывал. Став в г орделивейшую позицию, он невероятно длинной рапирой крест-накрест рассекал воздух и при этом неумолчно божился, что ни один смертный не способен отразить такую вот кварту или этакую терцию, а уж выпад его не в силах отбить никто на свете, и он вызывает любого зрителя померяться с ним силами в благородном фехтовальном искусстве. Прождав некоторое время, чтобы кто-нибудь отважился вступить с ним в открытое единоборство, карлик раскланивался со старомодным изяществом, благодарил за рукоплескания и брал на себя смелость оповестить достопочтеннейшую публику об удиви гельнейшем зрелище, когда-либо виденном дотоле на английской земле.
"Взгляните на эту особу,-- вскричал он, сперва натянув грязные лайковые перчатки и с подчеркнутой учтивостью выведя на середину круга юную девицу -участницу труппы. -- Эта особа зовется мадемуазель Лоране, она единственная дочь почтенной и благочестивой дамы, которую вы можете лицезреть вон там с большим барабаном и которая ныне носит траур по своему усопшему возлюбленному супругу, прославленному на всю Европу чревовещателю. Мадемуазель Лоране будет сейчас танцевать! Полюбуйтесь танцем мадемуазель Лоране!" -- После этих слов он опять закричал петухом.
Девушка явно не обращала ни малейшего внимания ни на его речи, ни на взгляды зрителей; погруженная в свои мысли, хмуро дожидалась она, чтобы карлик разостлал у ее ног большой ковер и снова принялся играть на треугольнике под аккомпанемент барабана. Это была удивительная музыка, помесь тяжеловесной сварливости и щекочущего сладострастия, и я различил трогательно-глупенькую, жалостно-вызывающую, странную и все же на диво простую мелодию, но я забыл об этой музыке, когда девушка начала танцевать.
И танец, и танцовщица помимо моей воли всецело завладели моим вниманием. То не была классическая манера танца, какую мы видим в нашем большом балете, где, как и в классической трагедии, действуют лишь напыщенные манекены и ходульные приемы; туг танцевались не александрийские стихи, не декламаторские пируэты, не антагонистичные антраша, не благородная страсть, что вихрем вращается на одной ноге, так что видишь только небо и трико, только мечту и ложь. Право же, ничто так не претит мне, как балет в парижской Большой опере, где традиция классической манеры танца сохранилась в нетронутом виде, меж тем как в других родах искусства -- в поэзии, в музыке, в живописи -- французы ниспровергли классический канон. Но им нелегко будет совершить такую же революцию в танцевальном искусстве; разве что они и здесь, как в своей политической революции, прибегнут к террору и гильотинируют ноги закоснелым танцорам и танцоркам старого режима. Мадемуазель Лоране не была великой танцовщицей, носки ее не были достаточно гибки, а ноги не приспособлены ко всевозможным вывертам, она ничего не разумела в танцевальном искусстве, какому учит Вес-трис, она танцевала, как велит танцевать человеческая природа: все существо ее было в согласии с ее танцевальными па, танцевали не только ноги, танцевало ее тело, ее лицо... минутами она бледнела смертной бледностью, глаза призрачно расширялись, губы вздрагивали вожделением и болью, а черные волосы, обрамлявши*; виски правильными опалами, взлетали, точно два вороновых крыла. Конечно, это был не классический танец, но и не романтический в том смысле, как его понимает молодой француз из школы Эжена Рандюэля. Не .было в этом танце ничего средневекового, ничего венецианского, изломанного, подобного пляске смерти, не было в нем ни лунного света, ни кровосмесительных страстей. Этот танец не пытался развлечь внешними приемами движения, нет -- внешние приемы были здесь словами особого языка, желавшего высказать нечто свое, особое. Что же высказывал этот танец? Я не мог понять его язык, как ни страстно он себя выражал. Лишь порой я угадывал, что говорит он о чем-то до ужаса мучительном. Обычно я легко улавливаю примети любых явлений, а )тих танцованных загадок решить не мог и тщетно силился нащупать их смысл,-должно быть, повинна в этом музыка, конечно, умышленно направляя меня на ложные стези, лукаво сбивая с толку и упорно мешая мне. Треугольник мосье Тюрлютю иногда хихикал так коварно. А почтенная мамаша так сердито била в свой огромный барабан, что лицо ее кроваво-красным северным сиянием пылало из облака черной шляпы.