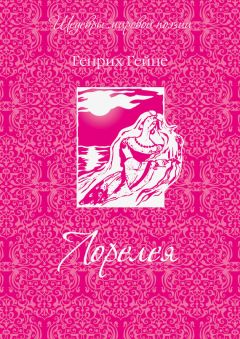Генрих Гейне - Флорентийские ночи
когда я смотрел в Porte Saint-Martin спектакль "Tour de Nesie". Я очутился в театре позади дамы в шляпе из розовато-красного газа, поля шляпы были до того велики, что закрывали от меня всю сцену целиком, и разыгрываемая там трагедия была мне видна лишь сквозь
красный газ шляпы, а значит, и все ужасы "Tour de Nesie" я воспринимал в самом что ни на есть веселом розовом свете. Да, Париж обладает таким розоватым светом, который придает трагедиям веселый оттенок в глазах непосредственных зрителей, чтобы не омрачать им радость
жизни. Даже те ужасы, которые приносишь с собой в собственном сердце, утрачивают в Париже свою устрашающую угрозу. Удивительным образом смягчаются страдания. В парижском воздухе раны заживают куда быстрее, чем где бы то ни было, в этом воздухе есть что-то столь же великодушное, сочувственное, приветливое, как и в самих парижанах.
Но больше всего понравилась мне учтивость и благородная осанка парижан. О, сладкий, ананасный аромат учтивости! Как оживил и ублажил ты мою больную душу, наглотавшуюся в Германии табачного дыма, запаха кислой капусты и грубости. Мелодиями Россини прозву
----------------------------
1 "Нельская башня"
чали в моих ушах куртуазные извинения француза, лишь едва толкнувшего меня на улице в день моего приезда в Париж. Я почти что испугался такой приторной учтивости,-- ведь я привык, чтобы немецкие невежи толкали меня в бок и не думали извиняться. Первую неделю пребывания в Париже я умышленно старался, чтобы меня толкали, лишь бы насладиться музыкой извинительных речей. Не только за эту учтивость, но прежде всего за их язык французы для меня были отмечены неким аристократизмом. Как вы знаете, у нас на севере французский язык считается одним из атрибутов знати, умение говорить по-французски для меня с малолетства было неотделимо от аристократизма. А в Париже любая рыночная торговка лучше говорила по-французски, чем немецкая канонисса, насчитывающая шестьдесят четыре предка.
Из-за языка, придающего французам налет аристократизма, весь народ приобрел в моих глазах что-то чарующе сказочное. А это было связано с другим воспоминанием детства. Первая книжка, по которой я учил французский, были басни Лафонтена; их простодушно-рассудительные сентенции неизгладимо запечатлелись в моей памяти, и когда я, приехав в Париж, повсюду слышал звуки французской речи, беспрестанно приходили на память лафонтеновские басни, так и слышались хорошо знакомые звериные голоса: вот говорит лев, а вот говорит волк, потом ягненок, или аист, или голубка, нередко я будто слышал речи лисицы и в памяти воскресали слова:
Не! bonjour, monsieur le Corbeau!
Que vous otes joli! Que vous me semblez beau!1
Еще чаще у меня в душе стали всплывать подобные басенные воспоминания, когда я угодил в Париже в те высшие сферы, которые зовутся светом. Это и был тот самый свет, где блаженной памяти Лафонтен почерпнул типы, воплощенные в образах животных. Зимний сезон начался вскоре после моего приезда в Париж, и я принял участие в жизни гостиных, где более или менее оживлен
-----------------------
1 Сударыня Ворона, мой привет!
Милей, прекрасней вас на свете нет! (фр.)
(Перевод Б. Томашевского)
но топчется этот самый свет. Заинтересовало меня отнюдь не единообразие царящих там утонченных нравов, а скорее пестрота состава. Случалось, что, наблюдая общество, собравшееся мирно провести время в многолюдном салоне, я готов был подумать, что нахожусь в антикварной лавке, где раритеты самых разных эпох в полнейшем беспорядке соседствуют между собой: греческий Аполлон рядом с китайской пагодой, мексиканский Вицлипуцли рядом с готическим Ессе homo, египетские идолы с собачьими головами и уродливые божки из дерева, слоновой кости, из металла и тому подобное. Я видел старых мушкетеров, некогда танцевавших с Марией-Антуанеттой, республиканцев умеренного толка, кумиров Национального собрания, неумолимых и непогрешимых монтаньяров, бывших деятелей Директории, восседавших в Люксембургском дворце, сановников Империи, перед которыми дрожала вся Европа, иезуитов, весьма влиятельных при Реставрации,--словом, сплошь вылинявшие, увечные божества различных эпох, в которых никто больше не верит. Имена их при соприкосновении рычат, а люди мирно и мило располагаются рядом, как антики в упомянутых лавках на Quai Voltaire1. В германских странах, где страсти труднее поддаются обузданию, светское сообщество столь разноликих индивидов было бы немыслимо. Да и потребность разговоров у нас, на холодном севере, не гак сильна, как в более теплой Франции, где ярые враги, столкнувшись в светском салоне, не способны долго хранить суровое молчание. К тому же во Франции жажда нравиться столь велика, что всякий стремится быть приятным не только друзьям, по и врагам. Здесь вечно во что-то драпируются, чем-то красуются, и женщины из сил выбиваются, дабы перещеголять мужчин в кокетстве. Это им все-таки удается. Последним своим замечанием я не хотел сказать ничего дурного о французских женщинах и менее всего о парижанках. Я вернейший их поклонник. Я поклоняюсь их порокам куда более, чем добродетелям. Я считаю на диво меткой легенду, будто парижанки рождаются на свет со всеми возможными пороками, по добрая фея, сжалившись над ними, снабжает каждый порок особыми чарами, отчего придаст им еще больше преле
--------------------
1 Набережной Вольтера (фр.).
сти. Зовется эта добрая фея грацией. Красивы ли парижанки? Кто знает! Кто может постичь все ухищрения туалета, кто способен разобрать, настоящее ли то, что просвечивает сквозь тюль, не подделано ли то, что выступает под сборчатым шелком. И едва удастся взгляду
проникнуть за оболочку, едва сделаешь попытку добраться до самого существа, как она прикрывается новой оболочкой, а потом опять новой, и этой непрерывной сменой моды они бросают вызов мужской прозорливости. Красивы ли они лицом? И это затруднительно
определить. Ведь черты их находятся в непрестанном движении, у каждой парижанки по тысяче лиц, одно веселее, выразительнее, пленительнее другого, и каждый становится в тупик, кто задумает выбрать самое красивое, не говоря уж о подлинном лице парижанки. Большие ли
у них глаза? Откуда я знаю! Можем ли мы определить калибр пушки, пока она своим ядром сносит нам голову. А даже если они, эти глаза, не попадут в цель, то ослепят жертву своим огнем, и пускай радуется, что дистанция оказалась надежной. А какое у парижанок расстоя
ние между носом и ртом, длинное или короткое? Иногда бывает длинным, когда парижанка задирает носик, иногда коротким, когда она шаловливо надувает верхнюю губку. Велик у нее рот или мал? Кто может понять, где кончается рот и начинается улыбка? Для правильного
вывода надо, чтобы обсуждающий и предмет суждения находились в состоянии покоя. Но кто может быть спокоен подле парижанки, и какая парижанка бывает когда-нибудь спокойна? Есть люди, которые думают, что могут точно разглядеть бабочку, приколов ее булавкой к бумаге. Это в одинаковой мере глупо и жестоко. При. шииленная неподвижная бабочка перестала быть бабочкой. Бабочку надо рассматривать, когда она порхает по цветам... и парижанку надо видеть не в домашней обстановке, где грудь у нее, как у бабочки, проколота булав
кой, ее надо видеть в гостиной на вечерах и балах, когда она порхает на расшитых газовых и шелковых крылышках под сверкающим хрусталем люстр. Тут-то вспыхивает в них, в парижанках, нетерпеливая жажда жизни, они алчут сладостного опьянения, упоительного дурмана, и сами становятся головокружительно прекрасны, сияют очарованием, которое и восхищает, и потрясает наши души. Эта жажда насладиться жизнью, как будто скоро, сейчас, смерть оторвет их от бьющего через край источника наслаждения или же сам источник сейчас иссякнет, это нетерпение, неистовство, безумие особенно ярко проявляется у француженок на балах и неизменно приводит мне на память поверье о мертвых танцовщицах, которых у нас называют виллисами. Это молодые невесты, умершие не дожив до дня свадьбы, но сохранившие в сердце такое неистраченное и страстное влечение к танцам, что по ночам они встают из могил, стаями собираются на дорогах и в полночный час предаются буйным пляскам. Наряженные в подвенечные платья, с венками цветов на головах и сверкающими перстнями на бледных руках, смеясь страшным смехом, неотразимо прекрасные виллисы танцуют под лучами луны, танцуют все бешенее, все исступленнее, чувствуя, что дарованный им для танца час на исходе и пора возвращаться в ледяной холод могилы.
Это сравнение особенно глубоко тронуло меня на вечере в одном из домов по Chaussee d'Antin. Вечер получился отменный, ничего не было упущено из общепринятых элементов светских увеселений: вдоволь света, чтобы показать себя, вдоволь зеркал, чтобы наглядеться на себя, вдоволь людей, чтобы разогреться в давке, вдоволь сахарной воды и мороженого, чтобы охладиться. Начали с музыки. Франц Лист склонился на уговоры, сел за фортепиано, откинул волосы над гениальным лбом и дал одно из своих блистательных сражений. Клавиши, казалось, истекали кровью. Если не ошибаюсь, он сыграл пассаж из "Палингенезий" Балланша, чьи мысли он перевел на язык музыки, что весьма полезно для тех, кто не может прочесть творения этого прославленного писателя в оригинале. Затем он сыграл "Шествие па казнь" ("La marche au supplice") Берлиоза, великолепный опус, который, если не ошибаюсь, был сочинен молодым музыкантом в утро своей свадьбы. Во всем зале побледневшие лица, вздымающиеся груди, легкие вздохи во время пауз и, наконец, бурные овации. Женщины не помнят себя после того, как Лист что-нибудь сыграет им. С бешеным восторгом закружились затем салонные виллисы в танце, и мне не без труда удалось выбраться из этой толчеи в соседнюю гостиную. Здесь шла игра и в глубоких креслах расположились несколько дам, которые наблюдали за игроками или же делали вид, будто интересуются игрой. Когда, проходя мимо одной из этих дам, я задел рукавом ее платье, у меня по руке до плеча пробежала легкая судорога, как от слабого удара электрическим током. Но новый удар с величайшей силой потряс мое сердце, когда я взглянул в лицо даме. Она ли это или не она? То же лицо, очертаниями и солнечной окраской подобное античным статуям; только оно не было уже гладким и чистым, как мрамор. Изощренный взгляд замечал на лбу и щеках небольшие щербинки, быть может, оспинки, напоминавшие пятнышки сырости, какие видишь на лицах статуй, долгое время простоявших на дожде. Те же черные волосы, точно вороново крыло, шкпшым овалом покрывали виски. Но когда ее глаза встретились с моими, и сверкнул хорошо знакомый взгляд в сторону, взгляд так загадочно молнией пронзивший мне сердце, сомнений не осталось. Это была мадемуазель Лоране.