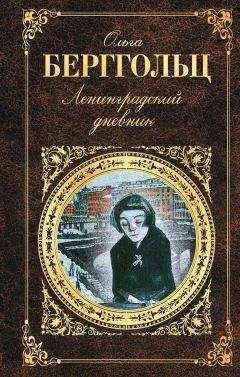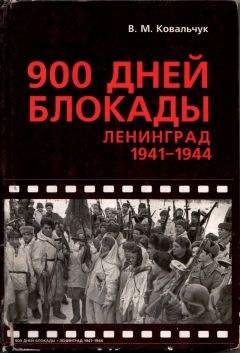Ольга Берггольц - Голос блокадного Ленинграда
1939
Родине
Все, что пошлешь: нежданную беду,
свирепый искус, пламенное счастье,—
все вынесу и через все пройду.
Но не лишай доверья и участья.
Как будто вновь забьют тогда окно
щитом железным, сумрачным
и ржавым…
Вдруг в этом отчуждении неправом
наступит смерть — вдруг станет
в с е р а в н о.
Октябрь 1939
2Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его.
Сквозь жалкое предательство друзей.
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.
Ни помыслом, ни делом не солгу.
Не искушай, — я больше не могу…
1939
3Изранила и душу опалила,
лишила сна, почти свела с ума…
Не отнимай хоть песенную силу,
не отнимай, — раскаешься сама!
Не отнимай, чтоб горестный и славный
твой путь воспеть.
Чтоб хоть в немой строке
мне говорить с тобой, как равной
с равной,—
на вольном и жестоком языке!
Осень 1939
" Пахнет соснами, гарью, тленьем. "
Пахнет соснами, гарью, тленьем.
Рядом бьется родник — лови!
Это запах освобожденья,
облик вечной нашей любви.
Не считаем ни дней, ни сроков.
Не гадаем, что впереди…
Трезвый, яростный и жестокий
полдень жизни — не отходи!
1939
Маргарите Коршуновой
Когда испытание злое
сомкнулось на жизни кольцом,
мне встретилась женщина-воин
с упрямым и скорбным лицом.
Не слава ее овевала,
но гнев, клевета и печаль.
И снят был ремень, и отняли
ее боевую медаль.
Была в ней такая суровость,
и нежность, и простота,
что сердце согрела мне снова
бессмертная наша мечта.
Никто никогда не узнает,
о чем говорили мы с ней.
Но видеть хочу, умирая,
ее у постели моей.
Пусть в очи померкшие глянет,
сурова, нежна и проста.
Пусть Ангелом Смерти предстанет
бессмертная наша Мечта.
1939
" Придешь, как приходят слепые: "
Придешь, как приходят слепые:
на ощупь стукнешь, слегка.
Лицо потемнело от пыли,
впадины
на висках.
Сама я открою двери
и крикну, смиряя дрожь:
— Я верю тебе, я верю!
Я знала, что ты придешь!
1939
Наш дом
…Сквозь дикий рай
твоей земли родной
А. ПушкинО, бесприютные рассветы
в степных колхозах незнакомых!
Проснешься утром — кто ты? где ты?
Как будто дома — и не дома…
…Блуждали полночью в пустыне,
тропинку щупая огнями.
Нас было четверо в машине,
и караван столкнулся с нами.
Он в темноте возник внезапно.
Вожак в коротком разговоре
сказал, что путь — на юго-запад,
везут поклажу — новый город.
Он не рожден еще. Но имя
его известно. Он далеко.
Путями жгучими, глухими
они идут к нему с востока.
И в плоских ящиках с соломой
стекло поблескивало, гвозди…
Мы будем в городе как дома,
его хозяева и гости.
В том самом городе, который
еще в мечте, еще в дороге,
и мы узнаем этот город
по сердца радостной тревоге.
Мы вспомним ночь, пески, круженье
под небом грозным и весомым
и утреннее пробужденье
в степном колхозе незнакомом.
О, сонное мычанье стада,
акаций лепет, шум потока!
О, неги полная прохлада,
младенческий огонь востока!
Поет арба, картавит гравий,
топочет мирно гурт овечий,
ковыль, росой повит, играет
на плоскогорьях Семиречья.
…Да, бытие совсем иное!
Да, ты влечешь меня всегда
необозримой новизною
людей, обычаев, труда.
Так я бездомница? Бродяга?
Листка дубового бедней?
Нет, к неизведанному тяга
всего правдивей и сильней.
Нет, жажда вновь и вновь сначала
мучительную жизнь начать —
мое бесстрашье означает.
Оно — бессмертия печать…
И вновь дорога нежилая
дымит и вьется предо мной.
Шофер, уныло напевая,
качает буйной головой.
Ну что ж, споем, товарищ, вместе.
Печаль друзей поет во мне.
А ты тоскуешь о невесте,
живущей в дальней стороне.
За восемь тысяч километров,
в России, в тихом городке,
она стоит под вешним ветром
в цветном платочке, налегке.
Она стоит, глотая слезы,
ромашку щиплет наугад.
Над нею русские березы
в сережках розовых шумят…
Ну, пой еще. Еще страшнее
терзайся приступом тоски…
Давно ведь меж тобой и ею
легли разлучные пески.
Пески горючие, а горы
стоячие, а рек не счесть,
и самолет домчит не скоро
твою — загаданную — весть.
Ну, пой, ну, плачь. Мы песню эту
осушим вместе до конца
за то, о чем еще не спето,—
за наши горькие сердца.
И снова ночь…
Молчит пустыня,
библейский мрак плывет кругом.
Нависло небо. Воздух стынет.
Тушканчики стоят торчком.
Стоят, как столпнички. Порою
блеснут звериные глаза
зеленой искоркой суровой,
и робко вздрогнут тормоза.
Кто тихо гонится за нами?
Чья тень мелькнула вдалеке?
Кто пролетел, свистя крылами,
и крикнул в страхе и тоске?
И вдруг негаданно-нежданно
возникло здание… Вошли.
Прими под крылья, кров желанный,
усталых путников земли.
Но где же мы? В дощатой зале
мерцает лампы свет убогий…
Друзья мои, мы на вокзале
еще неведомой дороги.
Уже бобыль, джерши-начальник,
без удивленья встретил нас,
нам жестяной выносит чайник
и начинает плавный сказ.
И вот уже родной, знакомый
легенды воздух нас объял.
Мы у себя. Мы дома, дома.
Мы произносим: «Наш вокзал».
Дрема томит… Колдует повесть…
Шуршит на станции ковыль…
Мы спим… А утром встретим поезд,
неописуемый как быль.
Он мчит с оранжевым султаном,
в пару, в росе, неукротим,
и разноцветные барханы
летят, как всадники, за ним.
Какой сентябрь! Туман и трепет,
багрец и бронза — Ленинград!
А те пути, рассветы, степи —
семь лет, семь лет тому назад.
Как, только семь? Увы, как много!
Не удержать, не возвратить
ту ночь, ту юность, ту дорогу,
а только в памяти хранить,
где караван, звездой ведомый,
к младенцу городу идет
и в плоских ящиках с соломой
стекло прозрачное несет.
Где не было границ доверью
себе, природе и друзьям,
где ты легендою, поверьем
невольно становился сам.
…Так есть уже воспоминанья
у поколенья моего?
Свои обычаи, преданья,
особый облик у него?
Строители и пилигримы,
мы не забудем ни о чем:
по всем путям, трудясь, прошли мы,
везде отыскивали дом.
Он был необжитой, просторный…
Вот отеплили мы его
всей молодостью, всем упорным
гореньем сердца своего.
А мы — как прежде, мы бродяги!
Мы сердцем поняли с тех дней,
что к неизведанному тяга
всего правдивей и сильней.
И в возмужалом постоянстве,
одной мечте верны всегда,
мы, как и прежде, жаждем странствий,
дорог, открытых для труда.
О, бесприютные рассветы!
Все ново, дико, незнакомо…
Проснешься утром — кто ты? где ты?
Ты — на земле. Ты дома. Дома.
1939
Ласточки
над обрывом
…О, домовитая ласточка,
О, милосизая птичка!
Г. ДержавинПришла к тому обрыву,
судьбе взглянуть в глаза.
Вот здесь была счастливой
я много лет назад…
Морская даль синела,
и бронзов был закат.
Трава чуть-чуть свистела,
как много лет назад.
И так же пахло мятой,
и плакали стрижи…
Но чем свои утраты,
чем выкуплю — скажи?
Не выкупить, не вымолить
и снова не начать.
Проклятия не вымолвить.
Припомнить и — молчать.
Так тихо я сидела,
закрыв лицо платком,
что ласточка задела
плечо мое крылом…
Стремясь с безумной высоты,
задела ласточка плечо мне.
А я подумала, что ты
рукой коснулся, что-то вспомнив.
И обернулась я к тебе,
забыв обиды и смятенье,
прощая все своей судьбе
за легкое прикосновенье.
Как обрадовалась я
твоему прикосновенью,
ласточка, судьба моя,
трепет, дерзость, искушенье!
Точно встала я с земли,
снова миру улыбнулась.
Точно крылья проросли
там, где ты
крылом коснулась.
1940