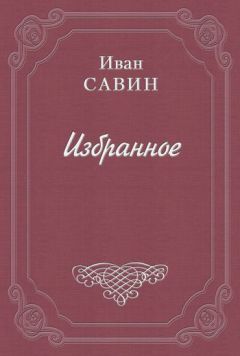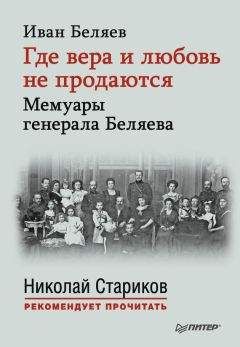Иван Савин - «Всех убиенных помяни, Россия…»
Пройдут годы слепоты, озверения, кровавого бешенства. Когда-нибудь станем, быть может, мудрыми и спокойными, научимся любить только прекрасное, отметая гной и злобу. Оглянемся на пройденный путь — и средь других лиц, ушедших в невозвратность, увидим и лицо Александра Блока, беспристрастным временем очищенное от клеветы, легенд, непонимания.
А пока с глубокой скорбью обнажим голову перед ранней могилой поэта. Но уже теперь, даже для нас, для ошибающихся современников, несомненно одно: Блок унес с собой талант исключительного напряжения, красоты исключительной нежности.
Поклонимся же отсюда, издалека, его праху и скажем волшебному чародею слова его же словами:
Ты в поля отошел без возврата.
Да святится имя твое…
Там, где все заполняющими тенями прошли Пушкин, Лермонтов, Майков и Фет, — славнейшие из славных, — казалось, нет места новому имени. Казалось, что все разнообразие тем и образов, вся музыка слова уже отражены в чеканных стихах и каждому, входящему в терем русской поэзии, суждено повторить сказанное другими, суждено только омолаживать старые, известные всем песни. Так казалось. Но в золотой терем постучался Блок, и новым волнующим светом вспыхнули его высокие стеньг, и в море этого света молодой дерзкий голос запел так необычно и так самобытно, что раздвинулись чудесные тени четырех, и поняли мы, что не все еще песни спеты, что много-много есть в жизни прекрасного, тайного, не замеченного нашими великанами слова.
Символист, любимый и любящий ученик Владимира Соловьева, первое время несомненно находившийся под сильным влиянием Фета и отчасти Тютчева, прошедший сквозь философскую истеричность Брюсова и никем еще не превзойденную музыкальность Бальмонта — основателей символизма, — Блок очень скоро стал самим собой, освободившись от вольных и невольных наслоений. Даже самые ранние его стихи, при очевидности заимствования основных тем, поражают оригинальностью разработки, новизной ритма, своеобразностью рифм. Еще более нов и своеобразен самый подход к поэзии, ее мистическое определение, та сокровенная сущность, которую поэт так полно выявил в известном стихотворении «К Музе».
Бесчисленное число раз бесчисленные служители Парнаса на бесчисленных языках воспевали Музу, богиню поэзии. И каждый раз перед глазами читателя вставал светлый, благотворный, радостный образ призрачной женщины с лирой в руках, образ, пронесенный в неприкосновенности сквозь все века и народы до нашего времени.
Муза Блока нерадостна, несветла и неблаготворна, привычный образ богини под его нервной кистью приобретает неожиданно страшный оттенок, становится насмешливым, хмельным и безумным, мучит своей проклятой красотой. Особенно ярко отразилось это проклятье в потрясающем стихотворении «К Музе», служащим первым звеном, отправной точкой к изучению Блока. Как характерны для всего творчества Блока эти строки:
Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты и Муза, и чудо.
Для меня ты — мученье и ад.
Но если Муза — «мученье и ад», если жалеет он, что «в час, когда уже не было сил» не погиб он, во имя чего же так странно-преданно служит он той, чьи ласки страшны и полынны?
Я искал голубую дорогу,
И кричал, оглушенный людьми,
Подходя к золотому порогу,
Затихал пред твоими дверьми.
Проходила Ты в дальние залы,
Величава, тиха и строга.
Я носил за Тобой покрывала,
Я смотрел на Твои жемчуга, —
говорит Блок в стихах «О Прекрасной Даме». Бесконечная жажда мечты — в облике Прекрасной Дамы, Незнакомки, Вечной Жены или Мадонны — неусыпная жажда мечты ведет его по земным и неземным дорогам в постоянном предчувствии встречи с той, кто «держит море и сушу неподвижно тонкой рукой». Блок только иногда, в минуты усталости от слишком палящего солнца любви своей к «Несуществующей Царевне», теряет веру в ее приход или боится, что он пройдет мимо Царевны, не узнав ее, что:
…Изменишь облик Ты
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
Но:
Мне страшно с Тобою встречаться,
Страшнее Тебя не встречать…
И, забывая горечь встреч и возможность ошибок, поэт снова и снова ищет в пустынных кварталах, на занесенных снегом площадях, в ковыльном поле, в седых кудрях туч и средь осенних алтарей Господних звезд свою Прекрасную Даму. И чем безумней эти исканья, чем слышнее шаги смерти, небытия, последнего предела, тем острее впивается взор поэта в марево далей, потому что:
Чем ближе веянье конца,
Тем лучезарнее, тем зримей
Сияние Ее лица.
Язык этих стихов, этих долгих молений о чуде, теплится необыкновенной нежностью, слегка тоскливой и всегда покорной, обреченной. Обреченность — придорожная келья, куда часто уходит Блок от земных непогод. Бывают дни, когда только в мысли о бесполезности борьбы, о ненужности надежд — чудится какой-то желанный, пусть и обманный, отдых. Призраком такого отдыха, дымкой такой примиренности, окутано творчество Блока. Он знает, что из тех, кто забыл радость свою и ушел в чужое море, — никто не вернется назад, что:
Весны дитя. Ты будешь ждать, —
Весна обманет.
Ты будешь солнце в небе звать —
Солнце не встанет.
И крик, когда начнешь кричать,
Как камень, канет.
Блок знает, что все равно:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Мир окутан непроницаемым злом, пустотой, скукой. Только молитвы к ней, к Прекрасной Даме, на время, на миг развеивают эту гнетущую пелену земной юдоли. Но все чаще приближения ее, шорох ее платья, голубая весна улыбки заглушаются черным стоном земли, пустой и мертвой. Сын нашего гиблого века, Блок, даже в минуты гордых взлетов в лучезарность, чертит крылом, полунадломленным, усталым крылом, по скалам слишком темной яви. Опьяненный звездными глазами Непостижимой Царевны, поэт все же, пусть вскользь, пусть мимолетно, видит огромную тропу боли, прорезывающую насквозь всю землю, кладущую резкий отпечаток в душах тех, кто идет по ней.
И не этим ли отсветом горя рождено одно из замечательных наших стихотворений Блока, стихотворение, горьким пророчеством звучащее и в наши дни? Не можем ли мы повторить его вместе с поэтом:
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны до дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие Твое!
Испепеляющие годы, весть безумья, принятая за весть надежды, привела Блока к «Двенадцати», поэме русского бунта.
Еще кипят споры вокруг этого загадочного Апокалипсиса, еще не разрешен вопрос:
— Что есть «Двенадцать»? — новый лавровый венок в славе Блока или конечный эшафот, обезглавивший его как поэта?
Сейчас же, по обнародовании поэмы, она стала евангелием революции. Те, кого она якобы воспевала, немедленно выдали автору аттестат на звание пролетарского певца; из противоположного лагеря на Блока посыпался град упреков, издевательств, брани. Безумного инока неведомого Бога, светящегося менестреля призрачной Королевы назвали красным поэтом.
А Блок не белый и не красный. Он, по образному выражению Зинаиды Гиппиус, — «потерянное дитя», застуженное метелями жизни. Блок пел о скучных радостях земных и отравляющих горестях, пока пелось, пока горело небо над головой голубым огнем, пока верилось в конечную победу мечты, пока возможен был приход Незнакомки, Мадонны. Когда небо упало лавой раскаленных углей, когда мечта, дух человеческий, все, чем он жил, чем живут все, «взыскующие иного града», было приговорено к расстрелу, когда побежали по миру всепобеждающие вихри крови, — Блок, не принимая этого пожара, хотел понять его, уловить ослепленным взором, хотел, не благословляя, высечь отражение его на камне искусства. И пал, раздавленный смерчем.
Внимательно вчитываясь в «Двенадцать», вы поймете, что в них нет особенной идейной основы, стержня, вокруг которого обычно вертятся образы, если литературному произведению хотят придать определенную политическую окраску. Да в таком стержне нет и надобности. «Двенадцать» — не пролог революции и не эпилог ее, не заповедь бунта и не анафема ему, а резкая до крика картина той безумной поры, когда — «пулей палили в Святую Русь».