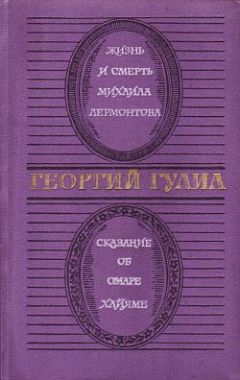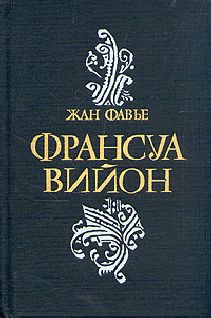Вардван Варжапетян - Путник со свечой
— Приказываю разойтись! Стража, обнажить кинжалы!
Толпа отхлынула, но напирали из переулков. Ком грязи, предназначенный Франсуа, залепил щеку сержанта.
— А, братцы Пердье, ваши лживые языки еще не выварили в сальных помоях с червивой падалью? Малыш Альбер, запомни их гнусные хари и посчитайся за меня. Золотарь Лу, выше голову, я уношу свою задницу, с собой.
Наконец показалась громада надвратной башни. Сложенная из обтесанных глыб известняка, она в тихом свете январского утра казалась легкой; как леденцы сверкала мокрая розовая черепица крыши. Четыре круглые башенки, врезанные по углам на высоте крепостной стены, венчали острые красные шпили с железными флажками. Из квадратных бойниц, высоко опоясавших башню и башенки, выглядывали солдаты. Заметив громадную толпу, стиснувшую стражу, солдаты выбежали с обнаженными мечами, пытаясь пробиться к лейтенанту Массэ. Уже от ворот Сен-Мартен и Монмартр мчалась на рысях подмога, кожаные спины плотно сомкнулись вокруг Франсуа, шлемы заслонили толпу, но, поднявшись по грязному склону холма к воротам, Вийон увидел сотни людей и всем им низко поклонился. Он прошел под сводом ворот до подъемного моста, перекинутого через ров, заполненный почерневшим снегом. Стаи ворон кружились над унылым полем с одинокой виселицей. Но дальше он не успел рассмотреть, потому что здоровенный пинок подкованного сапога свалил Франсуа с ног. Он с трудом поднялся, не сразу поняв, что стряслось, и помотал головой. Плащ испачкался в грязи, по щеке текла кровь. Стражники весело скалили зубы и шутки ради стали поднимать мост, наматывая ржавые цепи на ворот, так что пришлось ему спрыгнуть Прямо в грязь.
— О Париж, разве я не парижанин?! Разве у нас с тобой не один герб и девиз: «Его качает, но он не тонет»? Если ты дал своим стражникам, свирепым, как псы, башмаки, подбитые гвоздями, то почему не сделал мой зад каменным? И ты позволяешь этим сучьим детям издеваться над школяром Вийоном? Да разве после этого тебя можно назвать прекрасным городом? Ты просто куча дерьма, которую наложили триста тысяч задниц! Но я еще вернусь в эти ворота, я вернусь, дерьмовый город!
Глава 14
Страшно и одиноко стало Франсуа, когда он почувствовал под ногами раскисшую дорогу. Громадная страна лежала перед ним — с городами, крепостями, замками, с бесчисленными деревнями, но до них было шагать и шагать. А он даже не знал, где проходит граница графства Парижского, за которую ему велено убраться. Может, у той мельницы?
Он решил идти, не останавливаясь, пока совсем не стемнеет, а там будет видно — не стоять же, коченея, на ветру.
Навстречу двигались повозки, каменные столбы с высеченными крестами отмечали каждое пройденное лье, на взгорках дорога была суше, чем в низине, — и он шел, куда влекли его ноги. Пояс с зашитыми экю придавал силы, можно было даже купить повозку, но тогда пришлось бы заботиться еще и о лошади, да и приметна она слишком — в стог не спрячешь.
Но когда сзади зашлепали копыта по грязи и поравнялась телега, Франсуа не выдержал — захотелось под крышу, обсушить мокрые ноги.
— Далеко ли путь держишь, почтенный?
— Домой. Садитесь, коли по пути.
— Мне любая дорога по пути, а если у тебя найдется где переночевать да чем поужинать, я могу и заплатить.
— Что ж, почему не найтись, только уж денежки вперед.
Франсуа сел на телегу.
— И долго нам ехать?
— Если будет воля божья, приедем. А вас какая беда погнала в такую погоду из дома?
— Я — блудный сын. Не слышал про такого?
— Что ж, у каждого своя нужда. — Крестьянин поглубже закутался в овчину.
И больше не говорили. Вийон снял короб, засунул руки в рукава плаща, молча покачивался в телеге. По сторонам тянулись голые виноградники. Один раз лошадь остановилась, и крестьянин показал кнутовищем: волки.
Франсуа передвинул на поясе кинжал, но серые тени сгинули, и только храп встревоженной лошади напоминал о волках.
— Третьего дня задрали у соседа собаку, только шерсть и нашли... Ну вот, приехали.
В темноте Вийон не видел двора — ни огня, ни плетня, не слышно даже собачьего лая, словно на кладбище. Скрипнула дверь.
— Проходите в дом, господин.
Хозяин посветил зажженным пуком соломы, указывая дверь. Франсуа, пригнув голову, вошел в дом. Погасший очаг, стол на козлах да две лавки; на полу лежали дети — они молча смотрели на отца. Франсуа почувствовал, как у него мурашки поползли по коже.
— Лучше бы, конечно, вам остановиться у кого побогаче. Видно, вы человек знатный.
— Ничего, хозяин, мне б только обсушиться да поспать. А жена где?
— Услуживает синьору.
— А как же дети, ведь ты небось с утра выехал?
— Чего им сделается? Не золото — не украдут. Берите хлеб, больше ничего нет.
И так тоскливо стало Франсуа, что готов был на коленях ползти к воротам Сен-Дени. Но в разлуке с Парижем предстояло прожить еще долгие годы.
Глава 15
Земля продрогла от осенних холодов, с дубов облетела листва. Ночи стояли темные, страшные. Люди и скот попрятались в жилище и хлевы, со страхом прислушиваясь к свисту, вою, уханью, скрипу — любому звуку, нарушавшему тишину. По нужде выходили, осеняя себя крестом, дети же брали с собой кусок хлеба, ибо в хлебе святость и он отгоняет нечистую силу. Зато живодерам и ворам было раздолье на дорогах.
Я вам пою, вы долго спали,
Проснитесь от дурного сна!
Господь взывает к вам в печали —
Его земля осквернена.
Господь решил неверным дать
Иерусалим на поруганье,
Чтоб нашу веру испытать.
Примите ж божье испытанье!
Иерусалим скорбит и ждет ,
Кто защитить его придет! *
* Перевод И. Эренбурга.
И бродяге, вроде Вийона, тихо распевавшему песню крестоносцев, ночь была суконным одеялом, а темень — масляной лампой. Расстелив плащ, он поклонился, предлагая лечь своей спутнице, о которой знал столько же, сколько она о нем, — ровным счетом ничего, лег сам, толкнул ногой посох, поддерживающий сено, и вмиг на них, шурша, упало полстожка, укрыв теплее одеяла.
Франсуа встретил босоножку днем у белого дома с красной крышей и зелеными ставнями, — плача, она отбивалась от злой собаки, а мельник, обсыпанный мукой, хохотал, подмигивая жене, смотревшей из дверей. Франсуа без лишних слов треснул собаку посохом по оскаленной пасти и, положив руку на рукоять кинжала, улыбнулся мельнику.
— Так-то ты, негодяй, исполняешь Христов завет? Пожалел сиротке кусок хлеба! Но попомни, мельник, мои слова: по-волчьи будешь выть и скрежетать зубами, когда черти начнут тебе выламывать ребра, словно жерди из этого забора.
Перепуганный мельник снял колпак, крикнул жене, чтоб не мешкая вынесла из дома сало, хлеб, вино. Франсуа достал деньги:
— За сколько продаешь?
— Что вы, господин, о какой цене тут говорить, берите и ступайте с богом!
— Видишь, сердце у тебя доброе, а ты прикинулся злым. Господь не оставит тебя своей милостью, как ты не оставил это бедное дитя.
Прихватив еще и чугунок, Франсуа пошел с девушкой по дороге. У родника они остановились. Пока девушка набирала воду, Франсуа смотрел на голый куст шиповника, выискивая плоды. Прямые ветки железного цвета были унизаны острыми колючками, но они только казались острыми и злыми — мороз и дождь смягчили их; они тыкались в ладонь, бессильно царапая пальцы неокрепшими шипами. А плодов не было — склевали птицы.
— Как тебя зовут, красавица?
— Жаннетон, мессир.
— Не о тебе ли написал король Рено свою балладу «Рено и Жаннетон», когда я гостил у него в Анжере? Но той пастушке с тобой не сравниться. Волосы у тебя как трава, выгоревшая на солнце, а лицо белое. Дай-ка я обую твои ножки!
Он обмыл ее маленькие грязные ноги водой из родника, горестно увидел, что они в трещинах и незаживших ранах. Согрев своим дыханием посиневшие пальцы, натянул на них свои перчатки.
— Куда же ты идешь одна среди зимы?
— Не знаю. Прошу у добрых людей подаяния.
— Это ремесло и мне знакомо. Ну, пошли, мой воробушек, темно уже, а нам нужен ночлег.
Дойдя до опушки леса с забытым стожком, они набрали хворосту. Франсуа высек кресалом искру, раздул трут, и скоро они сидели рядом, протянув руки к веселому огню, смотрели в чугунок, в котором варилась очищенная репа. Славный получился ужин... Глаза девушки заблестели, робкая улыбка тронула маленькие губы.
— А меня зовут Франсуа, красавица. Франсуа Вийон.
Жаннетон выронила репу, словно горящий уголек обжег ее ладони.
— Я видела вас в нашем монастыре.
— Так ты, стало быть, сестра Христова?
Слезы задрожали в зеленых глазах.
— Меня прогнали, мессир. Уже не помню...