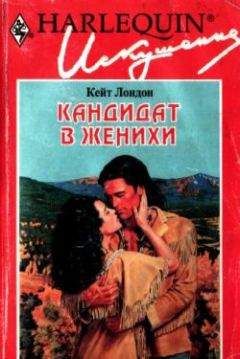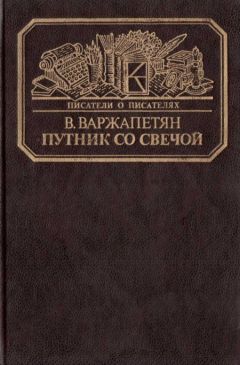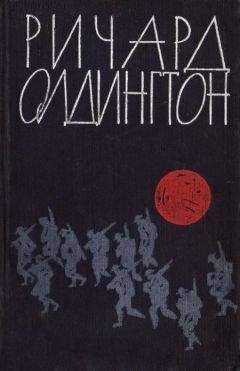Вардван Варжапетян - Баллада судьбы

Обзор книги Вардван Варжапетян - Баллада судьбы
Вардван Ворткесович Варжапетян
Баллада судьбы
Знай, Франсуа, когда б имела силу,
Я б и тебя на части искрошила.
Когда б не бог и не его закон,
Я б в этом мире только зло творила!
Так не ропщи же на Судьбу, Вийон.[1]
Франсуа ВийонГлава 1
Острый нос, красный от холода, и серые волосы, пушистые вокруг тонзуры, довершали сходство тюремного капеллана с дятлом; он был маленький и проворный, черная сутана путалась в быстрых ногах, а маленькие руки ловко извлекли из сумы толстую восковую свечу, белую захватанную накидку, коробочку с миром. Все это священник разложил на табуретке, принесенной Этьеном Гарнье, пока Франсуа, опустившись на колени, читал покаянную молитву «Конфитеор».
— Поверь, сын мой, только у бога достанет времени, чтобы выслушать тебя.
— Я верю, отец мой, ибо я трубил людям в уши, как в Роландов рог, но они проходили мимо. Я кричал от радости и боли…
— Боль пройдет, не думай о ней.
— Пройдет, держите карман шире! Сразу видно, что вам не пришлось бывать в пыточной, а повисели бы над жаровней с углями, не заливались бы соловьем. Посмотрите на мои руки, — Франсуа воздел руки, заклепанные в оковы, — костлявые, с распухшими суставами, — потрогайте мои шатающиеся зубы. За что меня терзают? Я в жизни никого не убивал, хотя, по правде говоря, встречались мерзавцы куда хуже, чем я, а мне дробят пальцы, выламывают плечи, клеймят, как скота, раскаленным железом…
— С тех, кто обошелся с тобой несправедливо, господь взыщет.
— Взыщет, когда черви источат мое тело. По дороге от Понт де-Со к Анжеру я видел дуб, на котором висело больше людей, чем желудей, — их приказал вздернуть барон Бертран дю Паладин за то, что в одной деревне сдох его любимый гончий пес. О, страна повешенных и колесованных!
— Тяжела рука господа за прегрешения людские.
Капеллан вздохнул. Потрескивала свеча, отбрасывая на сырую стену камеры громадную тень узника, — качались языки взлохмаченных волос, клочья разорванной бумаги, черная цепь.
— Покайся, прежде чем мне приведется прочитать над тобой «Да успокоится», сними железа со своей души.
— Я скверно жил, святой отец, чего уж там… И помыслы мои грязней сточной канавы на улице Мобер. Я крал, обирал живых и мертвецов, я грабил ризницы, а золото продавал в притонах. Я сквернословил, и язык мой, как бешеный пес, набрасывался на людей, кусая их за ляжки.
Священник, сморщив острый нос, перебирал четки с подвешенными образками.
— А уж поблудил на славу — в «Свинье», в «Сосновой шишке», в «Бисетре»… да назовите любой кабак, меня там долго не забудут.
— Каялся ли, согрешив?
— Еще бы! Проклинал свою жизнь, язык свой мерзкий, вот эти грязные лапы, любившие тискать девок и срезать чужие кошельки, глотку свою, которая с утра гнала меня к винной бочке. Все пороки я перепробовал — только не клеветал и не сожительствовал с собственной сестрой: один я у матушки.
— Исповедовался, сын мой?
— У епископа Тибо д’Оссиньи, дьявол сдери с него шкуру!
— Грех так говорить.
— О, все мои грехи ничто в сравнении с его грешищами, но он мягко спит, жирно ест и сладко пьет, а я гнию на цепи, изъеденный клопами.
— Не оскверняй уста хулой на князя церкви, позаботься лучше о себе. — Капеллан потер озябшие руки. — Поторопись, ты не один в этом доме скорби.
— Догадываюсь. И горько раскаиваюсь в своей беспутной жизни.
Капеллан вложил в рот узника причастие, подал кружку с водой — заключенным вина не полагалось. Помазал миром лоб, уста, ладонь — то, что помышляло о грехах, что сквернословило, что творило непотребное.
— Покайся, сын мой, и войдешь в царство божие…
— Да войдет ли оно в меня… — Франсуа поцеловал поднесенное распятие. Священник положил руку на склоненную голову.
— Ныне отпускаю грехи твои, раб божий Франсуа Вийон. Семь даров святого духа ниспослал господь человецам: страх божий, благочестие, знание, силу, просветление, разум и мудрость. Укрепись в благочестии, помни о страхе, остальное тебе дано. Несчастный, разве горит свеча без фитиля? Так и душа озаряется верой.
— Святой отец, об одном прошу: когда эти душегубы вздернут меня, сходите к моей матери — пусть она меня простит.
— Обещаю, сын мой. — Капеллан задул свечу, от фитиля заструился дымок. — Пусть и твою жизнь так задует господь. Отпускаю тебе грехи твои во имя отца, и сына, и святого духа. Сторож, отвори!
Щелкнул замок, загремел засов.
— Куда вас проводить, господин капеллан?
— Теперь в женское отделение.
— Много же у вас дел в Николин день.
— И в остальные дни тоже. Посвети-ка мне.
— Осторожнее, тут камень выпал из ступени.
— Спасибо, сын мой. И покрепче стереги преступника, кажется мне, во всем Шатле нет никого опаснее Вийона.
— Да что вы, господин капеллан, мыслимо ли отсюда убежать? Разве что он в муху обратится. — Гарнье захохотал, но капля горячей смолы упала ему на руку, и он вскрикнул от боли.
— Жалко, что не язык твой скверный припекло! В муху? Ее одним пальцем раздавишь, а он в слова оборотится, фьють — и лови попробуй! В мерзость смердящую, которая цепляется как репей и жалит словно шершни. Заключи свое сердце от его слов, если не хочешь гореть в преисподней.
Этьен Гарнье поежился от страха, словно верховод всех зол уже дохнул в затылок ледяным дыханьем.
— Если он скажет что-нибудь такое, я вам передам.
— И ухо почаще прикладывай к глазку: не слышится ли по ночам жабье кваканье или сатанинский хохот.
— Все сделаю.
— А теперь ступай.
Весь обратный путь сторож гремел ключами, отпугивая страх. Он был добрый малый и жалел тех, кого тащили из пыточной окровавленными, смердящими паленым мясом, а после влекли на эшафот. Прошло всего четыре месяца, как Гарнье перевели из Нельской башни в Шатле, и сердце его еще не успело ожесточиться.
Дойдя до шестой камеры, он приложил ухо к двери — тихо. Откинул навеску глазка — темно. Есть ли там кто? А вдруг обернулся мухой и сгинул? Нет, кажется, зашевелилось в углу, застонало. Уф, лучше бы нести ему караул в Нельской башне, играть с товарищами в кости, чем за лишнее экю дрожать от страха и кричать по ночам.
Глава 2
— Этьен, сынок, ты когда-нибудь видел пунцовую розу?
Слова, будто летучие мыши, закружились под низким каменным сводом. Сторож, наверное, ушел на кухню за хлебом и водой. «Да, обед и ужин похожи здесь как две капли воды, — усмехнулся Франсуа. — Как две капли воды и две крошки хлеба. В Консьержери дают еще горсть бобов, зато приковывают цепь к кольцу, вмурованному в стену. В Бург ля Рен разрешают зажигать светильник, но там нет житья от крыс. Но хуже всего в подземелье епископа Тибо д’Оссиньи, чтоб его черти сварили в ночном горшке, полном дерьма!»
Сколько он уже здесь? С ноября, а сейчас декабрь. Ветви каштана укрыл снег; когда сильный ветер, снег падает в зарешеченное узкое окно, и Франсуа, бережно собрав искрящиеся снежинки, долго держит на исхудавшей ладони, глядя, как медленно тает снег, как капли скатываются по впадинам черных морщин; из прозрачных становятся бурыми от тюремного пота и запекшейся крови.
Он не убивал. Он никогда никого не убивал, и даже Филиппа Шермуа лишь ранил. Его же убивали все. В его тощем теле, разрывающемся от кашля, не осталось ни одной косточки, не переломанной палачами, ни одной жилки, не кричащей от боли. А на этот раз помощник прево Пьер де ля Дэор решил прикончить школяра Вийона, и, кажется, ему это удастся, ведь не зря он спустил на него свору самых лютых следователей Парижа — Жана де Байли, Пьера Бобиньона и пса среди псов Жана Мотэна, который еще девять лет назад вел дело об ограблении Наваррского коллежа. Эти трое, заплати им хорошенько, прибьют гвоздями самого Иисуса Христа.
Зазвонили к обедне. Он узнал Марию — самый гулкий колокол Нотр-Дам, в морозном воздухе звон катился стеклянными шарами. Сердце Франсуа отозвалось ударами на звон, каменные плиты под босыми ступнями раскалились, как железный лист, на котором на ярмарке в Орлеане пляшут куры, перебирая обожженными лапками.
Задрожало сердце, и слезы хлынули из глаз, словно удары колокола стенобитным тараном проломили грудь, сокрушая стену вокруг сердца, — ширились известковые швы между глыбами, со скрежетом вырывались скрепы, и все дрожало, тяжко рушась, и душа металась на свирепом декабрьском ветру, как лист каштана. Франсуа обхватил толстые прутья решетки и затряс, но его малые силы даже дрожью не отозвались в черном кованом железе. И если бы сейчас сказал отец небесный: «Сотворю тебя снежинкой, жить которой до первого тепла, — согласен ли? Сотворю червем дождевым, цветком терновника — согласен ли?», ответил бы: «Боже всесильный и светоносный, яви свою силу и спаси! Как возжелаешь — червем, снегом, цветком, навозом, голохвостой крысой — только бы жить, только не умирать!»