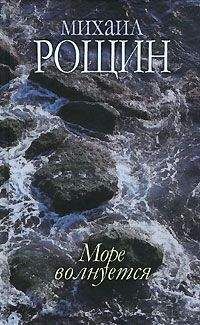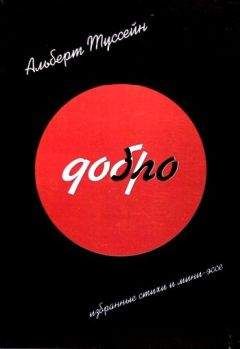Алексей Лозина-Лозинский - Противоречия: Собрание стихотворений
Скончался 5/18 ноября 1916 г. в Петербурге Похоронен 8/21 ноября на Митрофаньевском кладбище
Сын чистейшей Грезы, зачатый в восторге,
Мир узрел в тумане, в сумеречном морге,
В контурах ушедших в муть и полутоны.
А. Лозина-Лозинский
Эти беглые воспоминания не имеют характера систематической биографии покойного моего брата Алексея Константиновича Лозина-Лозинского, а служат только некоторым пособием для составления более подробного описания, как его жизни, так и условий его творчества. Не имея под руками никаких материалов о брате, ни его архива, переписки и пр., мне трудно, порой, по памяти, восстановить многое, поэтому я ставлю себе пока задачей вносить в эти записки отдельные моменты и факты его жизни, не оставляя надежды рано или поздно объединить всё в обстоятельную его биографию, дополненную как материалами бумаг и переписки, так и воспоминаниями близких лиц, его знавших.
В. Лозина-Лозинский
Покойный брат мой, Алексей Константинович Лозина-Лозинский, был на полтора года моложе меня и родился в Петербурге 29 ноября ст.ст. 1886 г. (на Кирочной ул. около Таврического сада). Семья наша, в ту пору состоявшая из отца моего, врача Константина Степановича, матери, женщины-врача, Варвары Карловны, рожд. Шейдеман, и меня, временно жила в г. Петербурге, гае родители наши находились на курсах усовершенствования врачей. Отец наш родом из Каменец-Подольска, окончил в 1883 г. в С<анкт>-Петербурге Военно-Медицинскую Академию, а мать была из Курской губернии и тоже в 1883 г. окончила женские медицинские курсы при тогдашнем Николаевском военном госпитале. Вскоре после рождения брата они снова вернулись в г. Духовщину Смоленской губ., где наши мать и отец занимали должности сельских врачей. Весной 1888 г., когда брату было всего 1 г. 6 м., от сыпного тифа умерла наша мать. Женщина исключительного идейного порыва, ушедшая на трудную земскую работу из семьи совершенно иного склада (отец ее был военный, известный герой Севастопольской обороны 1854 г. – К. Ф. Шейдеман), Она всеми силами души отдалась служению ближнему, и как прекрасный врач, как видный общественный деятель. Живая, умная, блестяще образованная и увлекательная, Варвара Карловна была выдающимся явлением даже в то время, богатое идейными работниками послепореформенного периода. Деятельность ее как врача, как педагога, как общественного земского работника отмечена, между прочим, в ряде некрологов Смоленских и столичных газет того времени, а память о ней как о необыкновенно и исключительно обаятельном человеке до сих пор жива еще в кругах тех из ее современников или их детей, кому хоть раз в жизни пришлось быть в ее обществе. Скончалась она 29 лет. Смерть ее совпала с тяжелой болезнью (тифом же) и нашего отца, так что мы с моим братом Алексеем были взяты временно на попечение родственниками. Особенное участие в судьбе нашей тогда, а впоследствии и до самой смерти брата, в нас принимала сестра нашей матери Клавдия Карловна Э<нгельгардт>, в семье которой всю нашу жизнь мы встречали помощь, любовь и радушие. Да и вообще, мы были окружены заботой и лаской как отца, так и родных, а в доме у нас жила пожилая сестра милосердия в качестве нашей няни-воспитательницы. Эта добрейшая Татьяна Ефимовна души не чаяла в «Лешеньке», как она его называла, и пронесла это чувство обожания к нему через всю свою одинокую жизнь.
Рос мой брат тихим и сосредоточенным ребенком, как будто вне мира сего, так что еще кормилица называла его «унывненький». Однако очень рано в нем начала складываться порывистая, нервная, поэтичная натура матери, характер, который он унаследовал в большей мере, да и внешностью он был похож на нее. Наряду с ранней задумчивостью, он с детства поражал окружающих необыкновенной памятью (особенно на стихи), вдумчивостью и интересом к отвлеченным вопросам. В обществе же сверстников наш Леша всегда играл первую скрипку и был с самых ранних лет инициатором всяких игр и забав. Лет 3 он перенес скарлатину. В эту пору отец наш уже приехал (в 1888 г.) в Петербург и занял место старшего врача на тогдашнем Путиловском заводе. В 1891 г. он вторично женился на племяннице известного художника Ольге Владимировне Сверчковой. От этого брака у отца было еще трое детей. Жили мы сначала в Екатерингофе, а затем на Фонтанке и на Садовой в районе Покрова, садик которого был обычным местом наших ежедневных прогулок с гувернанткой. Лет 5-6 брат хорошо умел читать (прекрасно говорил по-немецки) и любил рисование. Уже на 8 году он сочинял длинные рассказы из индейского быта, иллюстрируя их рисунками, полными своеобразного движения и замысла. Увлечение индейцами по романам Купера, М<айн> Рида, Буссенара и Жюль Верна сменилось страстным увлечением Наполеоном I. В этом отношении очень характерно его юношеское стихотворение «Ватерло», где так сказался этот детский восторг. С небывалой для ребенка эрудицией он говорил о его походах, разбирал военные планы и стратегию и умел, как и всё, что он делал, окружать ореолом обаяния и величия любимого им героя. Вообще его всегда тянуло всё «героическое». Он любил рассказы про рыцарей. Его мистическое воображение населяло величественными образами развалины замков, которыми он разрисовывал свои бруллионы, любил мечтать «о подвигах, о доблести, о славе»… и всё это ребенком, что теперь называется, «дошкольного периода». Постоянно он что-то писал, рисовал, был полон каких-то грез. Вместе с тем он был рассеянным и точно ничего не различал во внешней жизненной обстановке. С детства это был романтик и поэт-философ совершенно особого склада. Отчасти это объяснялось еще его необычайной близорукостью, наследованной от матери, в роду которой это было характерной чертой. Однако он любил и бегать и поиграть со сверстниками, и тогда весь отдавался игре, как будто умышленно отгоняя от себя какую-то надвигавшуюся на него, 8-летнего ребенка, не то тоску и угнетенность, не то болезненную пытливость духа. Какая-то грусть чувствовалась в нем всякий раз, когда он задумывался, и казалось, нужно было усилие, чтобы ее стряхнуть. Эта грусть, «меланхолия», в сущности была основным мотивом или канвой его жизни, и я помню, что когда он уже взрослым, бывало, встряхивал своими длинными волосами, у меня было всякий раз какое-то болезненное ощущение за него, что он именно стряхивал какие-то неотвязные думы, которые мучают его мозг и сердце. Повторяю, что любил он всё героическое, и в этом смысле ему нравилась, как часто вообще мальчикам, игра в войну. У него были тысячи прекрасных оловянных солдатиков (их привозили тогда в магазин Цвернера из Нюренберга) и он лет до 12-13, с увлечением и тонкой стратегией, проводил за игрой с ними иногда целые дни. Лучшим другом его детства и юности был младший сын Клавд<ии> Карл<овны> Э<нгельгардт> Юрий, ровесник ему. С этим Юрой связана в дальнейшем вся его жизнь. «Гурман и сибарит – живой и вялый скептик», как он его характеризовал в одном стихотворении. Несмотря на разность их характеров, они нежно любили друг друга, и брат ни в чем от него не таился. Иначе было несколько со мной – он был более скрытен, и, б<ыть> м<ожет>, потому, что мы были не только очень близки друг другу, он с необычайной для ребенка, мальчика, а потом и взрослого деликатностью скрывал от меня всё, что могло бы меня огорчить. Привязан же он ко мне был необычайно, и хоть иногда мы и дрались с ним детьми, всё же наша взаимная дружба и любовь были самым сильным чувством нашей жизни.
Зимами мы жили в Петербурге, а летом на дачах в Луге, на Сиверской, или в деревне у родственников («Колосовка» Псковской губ., «Буда» Могилевской и т. д.). Одно лето жили на курорте в Гунгенбурге, а с 1902 г. в «Волме». Осенью 1896 г. брат поступил в приготовительный класс гимназии Человеколюбивого общества, что тогда находилась на Крюковом канале д. 15. Учение ему давалось легко, а в классе он занял не только доминирующее положение, но и фрондирующее по отношению к начальству. Неоднократно вызывали к директору на объяснения наших родителей по поводу его какой-либо выходки или «протеста». А раз, помню, негодуя на какой-то несправедливый поступок учителя, он швырнул дневником в инспектора. Начальство на него ворчало, но ученики его просто боготворили. Уже в приготовительном классе он поражал взрослых и учителей своей начитанностью, сообразительностью и красноречием. Выводы его были умны и тонки, философски построены, так сказать, и мальчуганы не без уважения шутили над ним, называя его «профессором кислых щей и баварского кваса», отдавая дань его «профессорскому» подходу ко всему, чего касалась его мысль. До 14 лет он был небольшого роста, коренастый, немного сутулый, в очках, а потом вытянулся и развился в стройного юношу, хотя привычка сутулиться осталась за ним до конца жизни. Волосы – не особенно темный шатен; глаза серые, скорее темные и удивительно вдумчивые» добрые и с особым оттенком не то скорби, не то какой-то грустной задумчивости. Ровные, но некрупные зубы; руки очень небольшие, но энергические, крепкие. Внешности он придавал мало значения; никогда его не интересовали костюм, прическа и пр., как это водится у большинства молодежи. Он не только не интересовался, но в этом отношении был совершенно небрежен к самому себе, так что наша рыжая старая француженка м<ада>м Макко оставляла его подолгу стоять «на углу», т. е. в углу, и не только мыть хорошенько руки, но и исписывать страницы фразой; «А tu lave tes mains?» Знание французского языка открыло ему мир французской романтики, и Виктор Гюго сделался его любимым автором. Он делал выписки на целых страницах, смаковал такие главы, как «Ceci а tue celu», с увлечением изучал готику и пересыпал свои рассказы и увлекательную речь образами прочитанных романов и героев Химеры «Notre Dame de Paris», «Les travailleurs de la mer» и др. – все это тогда уже закладывало фундамент тем настроениям, которыми проникнуты его стихи и поэтическая проза. Опять «героическое», «мистическое», «потустороннее». Религиозен он не был никогда в том смысле, как это понималось школой и официальной церковью, но он всю жизнь не только не был атеистом, но, как мистик, всегда глубоко верил в Бога, и под конец жизни (о чем речь впереди) вера эта приняла почти определенные формы, я бы сказал, близкие к религиозному культу. О себе он писал: «есть демон, верующий в Бога». Сосредоточенная, но не афишированная миру грусть и глубокая вера в вечность и Бога – вот лейтмотив его поэзии и прозы. Всё что он ни делал, ни изучал, что ни наблюдал или любил – всё это преломлялось через эти ощущения вечности, искание ее, и вытекавшей из них печали и жажды смерти. Впоследствии он всегда с такой милой иронией и грустью говорил: «на этой маленькой планете»… или «lе monde est si petit». Поэзию любил всегда, хорошо знал на память русских поэтов, особенно любил Тютчева, а из иностранных Гейне, Беранже, Верлена и Бодлера. Стихи он начал писать рано, так же рано, как начал, правда, по-детски, чувствовать нежность и красоту. Одно из первых его «увлечений» была одна институтка Лида С., у которых бывали мы на каникулах. «Василечки, васильки, как вы чудно хороши, но красивее всех вас, это Лиды черный глаз»» писал он ей. Было ему тогда 9-10 лет. Он вел дневники, писал рассказы, стихи, а в 4-5-ом классе гимназии – сатиры на учителей и на весь тогдашний учебный уклад, достаточно раскритикованный прессой. Газетой он всегда интересовался. Помню его удивительные прогнозы о Бурской войне. Он знал все сводки и положение дел, так что разъяснял взрослым. А дело Дрейфуса и др.! Всё это было 1898-1900 гг. Летом 1900 г. он перенес брюшной тиф и был почти при смерти. Вспоминаю кстати, как, еще будучи лет 7, он упал в деревне в пруд и чуть не утонул. Его вытащили, и на вопрос, боялся ли он и пр., он отвечал – «Я только думал, куда я попаду – в рай или чистилище». Смерти вообще он не боялся, искал ее, хотел ее «разгадать», и только физический страх боли удерживал его «рискнуть» идти ей навстречу. А сколько раз он порывался! Однако в годы его отрочества и юности эта черта его характера не всем была ясна и заметна, потому что на людях, в общем, он поражал своею жизнерадостностью, живостью, увлекательной беседой, всегда содержательным разговором и остроумной речью. Особенно он умел рассказывать о своих поездках или путешествиях. Так как он был очень близорук, то многое внешнее уходило из его поля зрения, но зато интуитивно чувствовал он и многое из того, что для других проходило незамеченным. Он схватывал окружающее чутьем поэта и романтика, и потому рассказ его, даже иногда уклоняясь в сторону преувеличений или воображения, всегда имел (уже в детских его повествованиях) и литературный оттенок, и какой-то философский смысл. Это впоследствии и сказалось в его очерках «Одиночество». Одной из первых его поездок, мальчиком лет 12, было путешествие с отцом и со мной на Иматру по шхерам, а затем в 1901 г. в Новгород с отцом, где он пытливо присматривался к русской старине и зодчеству. Зимою жизнь наша в Петербурге шла в обычном посещении гимназии, в условиях зажиточной трудовой семьи; дома, кроме того, мы занимались языками и музыкой (к которой у брата, кстати сказать, способностей ж было). Однако впоследствии он любил музыку и сам пробовал подбирать любимые им мотивы. Читал он всегда массу. Начав с М<анн> Рида, он постепенно переходил на классиков и к 15 годам перечел уже всех. Достоевского он читал позднее. Вырастая в условиях демократических веяний, под влиянием народовольческих идей нашего отца, а равным образом и в атмосфере начинавшегося брожения в стране, он с увлечением читал Писарева, Добролюбова, Якубовича-Мельшина, который был дружен с нашим отцом, между прочим, и др. Вместе с этими авторами он заинтересовывается вообще материалистическим мировоззрением и набрасывается на литературу этого направления. Начиная с начала 1900-х годов появляется на книжном рынке множество книг и брошюр такого рода: изд<ания> «Донской Речи» и пр., а также переводы Каутского, Бебеля, Лафарга, работы Плеханова и др. Всё это, в связи с его природным романтизмом, идеализируется им, как какой-то героический переворот, долженствующий с корнем уничтожить «мещанство быта». Один из журналистов (П. Пильский) в статье своей в «Русской воле» 20 февр<аля> 1917 г. очень верно сказал о моем брате, что он обладал «аристократизмом породы при демократизме мечты». И вот на этом базисе у него и строилось отвлеченное, идейное представление о победе социализма. 16-ти лет он «засел» за Маркса и прочел «Капитал», делая из него выписки и часами дискуссируя о прочитанном со своим рано скончавшимся другом по гимназии Сергеем Желниным. Особенно памятны мне эти дискуссии у нас в усадьбе, в Новгородской губ. около ст. Торбино, в «Волме», куда с 1901 по 1916 г. мы обычно ездили на лето. В стремлении «дойти до точки», как мы тогда говорили, брат, изучая Маркса, часами сидел с Сергеем над некоторыми трудными страницами. Этому изучению он тоже отдавался с увлечением и быстро схватил и этот цикл идей. В ту пору (уже и ранее) всюду шли споры между «народниками» и «марксистами», и Леша (его так звали дома) с необыкновенной диалектикой всегда был в стане победителей у вторых (впоследствии примкнул к меньшевизму). Однако, инстинктивно боясь уйти в одну область, а теоретически считая необходимым развиваться всесторонне, он от Маркса бежал играть в крокет, теннис или в лапту с деревенскими ребятами, или садился линовать свой огромный альбом для марок, которые он собирал не кое-как, а по «своей», как он говорил, «системе». Вообще всю жизнь он хотел прожить или проделать «по системе» и в спорах всегда логически доказывал эту возможность, В последние годы жизни он даже разрабатывал какую-то «верную систему» игры в рулетку. Но, конечно, и здесь, как и во всех своих надуманных «системах», оказался в проигрыше. Но самое это стремление к волевому принципу жизни характерно для всей его жизни. Словом, на нем сказалась пословица: «Каков в колыбельке – таков и в могилку» Всё, что характерно для него с детства – красной нитью прошло через всю жизнь. В нем не было «переломов», свойственных молодости. Казалось, всё было в нем заложено в миниатюре: интересы, симпатии, думы, искания и страдания – и всё это только увеличивалось с ростом тела и духа, но из тех же зерен. Даже в такой мелочи, как пища, он сохранял всю свою жизнь одинаковые вкусы, так что, например, у нас в семье в дни его рождения и именины (17 марта) было традицией до конца его дней заказывать на обед непременно его любимые «суп с клецками», «котлеты с макаронами» и «трубочки со сливками» – так шло 25 лет подряд!