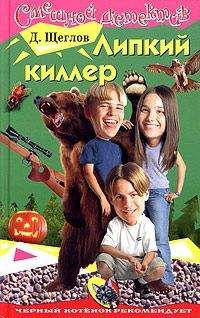Константин Бальмонт - Том 1. Стихотворения
Кукольный театр
Я в кукольном театре. Предо мной,
Как тени от качающихся веток,
Исполненные прелестью двойной,
Меняются толпы марионеток.
Их каждый взгляд рассчитанно-правдив,
Их каждый шаг правдоподобно-меток.
Чувствительность проворством заменив,
Они полны немого обаянья,
Их modus operandi прозорлив.
Понявши все изящество молчанья,
Они играют в жизнь, в мечту, в любовь,
Без воплей, без стихов, и без вещанья,
Убитые, встают немедля вновь,
Так веселы и вместе с тем бездушны,
За родину не проливают кровь.
Художественным замыслам послушны,
Осуществляют формулы страстей,
К добру и злу, как боги, равнодушны.
Перед толпой зевающих людей,
Исполненных звериного веселья,
Смеется в каждой кукле Чародей.
Любовь людей — отравленное зелье,
Стремленья их — верченье колеса,
Их мудрость — тошнотворное похмелье.
Их мненья — лай рассерженного пса,
Заразная их дружба истерична,
Узка земля их, низки небеса.
А здесь — как все удобно и прилично,
Какая в смене смыслов быстрота,
Как жизнь и смерть мелькают гармонично!
Но что всего важнее, как черта,
Достойная быть правилом навеки,
Вся цель их действий — только красота.
Свободные от тягостной опеки
Того, чему мы все подчинены,
Безмолвные они «сверхчеловеки».
В волшебном царстве мертвой тишины
Один лишь голос высшего решенья
Бесстрастно истолковывает сны.
Все зримое — игра воображенья,
Различность многогранности одной,
В несчетный раз — повторность отраженья.
Смущенное жестокой тишиной,
Которой нет начала, нет предела,
Сознанье сны роняет пеленой.
Обман души, прикрытый тканью тела,
Картинный переменчивый туман,
Свободный жить — до грани передела.
Святой Антоний, Гамлет, Дон Жуан,
Макбет, Ромео, Фауст — привиденья,
Которым всем удел единый дан: —
Путями страсти, мысли, заблужденья,
Изображать бесчисленность идей,
Калейдоскоп цветистого хотенья.
Святой, мудрец, безумец, и злодей,
Равно должны играть в пределах клетки,
И представлять животных и людей.
Для кукол — куклы, все — марионетки,
Театр в театре, сложный сон во сне,
Мы с Дьяволом и Роком — однолетки.
И что же? Он, глядящий в тишине,
На то, что создал он в усладу зренья,
Он счастлив? Он блаженствует вполне?
Он полон блеска, смеха, и презренья?
Наваждение
Когда я спал, ко мне явился Дьявол,
И говорит: «Я сделал все, что мог:
Искателем в морях безвестных плавал, —
Как пилигрим, в пустынях мял песок,
Ходил по тюрьмам, избам, и больницам,
Все выполнил — и мой окончен срок».
И мыслям как поющим внемля птицам,
Я вопросил: «Ну, что же? Отыскал?»
Но был он как-то странно бледнолицым.
Из двух, друг в друга смотрящих зеркал,
Глядели тени комнаты застывшей,
Круг Месяца в окно из них сверкал.
И Дьявол, бледный облик свой склонивши,
Стоял как некий бог, и зеркала
Тот лик зажгли, двукратно повторивши.
Я чувствовал, что мгла кругом жила,
Во мне конец с началом были слиты,
И ночь была волнующе светла.
Вокруг окна, волшебно перевиты,
Качались виноградные листы,
Под Месяцем как будто кем забыты.
Предавшись чарам этой красоты,
Какой-то мир увидел я впервые,
И говорю: «Ну, что же? Я и ты —
Все ты, да я, да ты: полуживые,
Мы тянемся, мы думаем, мы ждем.
Куда ж влекут нас цели роковые?»
И он сказал: «Назначенным путем,
Я проходил по царственным озерам,
Смотрел, как травы стынут подо льдом.
Я шел болотом, лугом, полем, бором,
Бросался диким коршуном со скал,
Вникал во все меняющимся взором».
И я спросил: «Ну, что же? Отыскал?»
Но был он неизменно бледнолицым,
И дрогнул лик его меж двух зеркал.
Зарницы так ответствуют зарницам.
«Что ж дальше?» И ответил Дьявол мне:
«Я путь направил к сказочным столицам.
Там бледны все, там молятся Луне.
На всех телах там пышные одежды.
Кругом — вода. Волна поет волне.
Меж снов припоминаний и надежды,
Алеют и целуются уста,
Сжимаются от сладострастья вежды.
От века и до века — красота,
Волшебницы подобные тигрицам,
Там ласки, мысли, звуки, и цвета».
И предан снам, их стройным вереницам,
Воскликнул я: «Ну, что же, отыскал?»
Но Дьявол оставался бледнолицым!
Из двух, друг в друга смотрящих, зеркал
Глядели сонмы призраков сплетенных,
Как бы внезапно стихнувший кагал.
Все тот же образ, полный дум бессонных,
Дробился там, в зеркальности, на дне,
Меняясь в сочетаньях повторенных.
Сомнамбулы тянулись к вышине,
И каждый дух похож был на другого,
Все вместе стыли в лунном полусне.
И к Дьяволу я обратился снова,
В четвертый раз, и даже до семи:
«Что ж, отыскал?» Но он молчал сурово.
Умея обращаться со зверьми,
Я поманил царя мечты бессонной:
«Ты хочешь душу взять мою? Возьми».
Но он стоял как некий бог, склоненный,
И явственно увидел я, что он,
Весь белый, весь луною озаренный —
Был снизу черной тенью повторен.
Увидев этот ужас раздвоений,
Я простонал: «Уйди, хамелеон!
Уйди, бродяга, полный изменений,
Ты, между всех горящий блеском сил,
Бессильный от твоей сокрыться тени!»
И страх меня смертельный пробудил.
Химеры
Высоко на парижской Notre Dame
Красуются жестокие химеры.
Они умно уселись по местам.
В беспутстве соблюдая чувство меры,
И гнусность доведя до красоты,
Они могли бы нам являть примеры.
Лазурный фон небесной пустоты
Обогащен красою их несходства,
Господством в каждой — собственной черты.
Святых легко смешаешь, а уродство
Всегда фигурно, личность в нем видна,
В чем явное пороков превосходство.
Но общность между ними есть одна:
Как крючья вопросительного знака,
У всех химер изогнута спина.
Скептически произрастенья мрака,
Шпионски-выжидательны они,
Как мародеры возле бивуака.
Не получив ответа искони,
И чуждые голубоглазья веры,
Сидят архитектурные слепни, —
Односторонне-зрячие химеры,
Задумались над крышами домов,
Как на море уродливые шхеры.
Вкруг Церкви, этой высшей из основ,
Враждебным станом выстроились зданья,
Берлоги тьмы, уют распутных снов, —
И Церковь, осудивши те мечтанья
Сердец, обросших грубой тканью мха,
Развратный хаос в мире созиданья, —
Где дышит ядом каждая кроха, —
Воздвигла слепок мерзости звериной,
Зеркальный лик поклонников греха.
Но меж людей, быть может, я единый
В глубокий смысл чудовищ тех проник,
Всегда иное чуя за картиной.
Привет тебе, отшедший мои двойник,
Создатель этих двойственных видений.
Я в стих влагаю твой скульптурный крик.
Привет вам, сонмы страшных заблуждений!
Ты — гений сводни, дух единорог,
Сподручник жадный ведьмовских радений.
Гермафродит, глядящий на порок,
Ты жабу давишь в пытке дум бессонных,
Весь мир ты развратил бы, если б мог.
Концы ушей, продленно-заостренных,
Стоят, как бы заслышавши вдали
Протяжный гул тобою соблазненных.
Колдуний новых жабы привели.
Но ты уж слышишь ропот осужденья,
Для вас костры свирепые зажгли.
И ты, заклятый враг деторожденья,
Колдунья с птицей, демоны-враги,
Препоны для простого наслажденья!
Твое лицо — зловещий лик Яги,
Нагие десна алчны и беззубы,
Твоя рука имеет вид ноги,
Твои черты безжалостные грубы,
Застыли пряди каменных волос,
Не знали поцелуев эти губы, —
Не ведали глаза химеры слез,
И шерстью, точно сорною травою,
Твой хищный стан уродливо оброс.
Как вестник твой, крича, перед тобою
Стервятник омерзительный сидит,
Покрытый вместо перьев чешуею.
В его когтях какой-то зверь хрустит,
Но как ни гнусен вестник твой ужасный,
Ты более чудовищна на вид.
И оба вы судьбе своей подвластны,
Одна мечта на вас наводит лоск,
Единый гений, жесткий и бесстрастный.
Как сжат печатью вдавленною воск,
Так лоб у вас, наклонно убегая,
К убийству дух направил, сжавши мозг.
И ты еще, уродина другая,
Орангутанг и жалкий идиот,
Ты скорчился, в тоске изнемогая.
Убогий демон, выродок, и скот,
Герой мечты безумного Эдгара,
Зачатой в этом мире в черный год.
В тебе инстинкт горел огнем пожара,
И ты двух женщин подло умертвил,
Но в цвете крови странная есть чара.
Тебя нежданный ужас подавил,
И ты бежал на этот Дом Видений,
Беспомощный палач, лишенный сил.
Вы, дьяволы любовных наслаждений,
Как много в вас отверженной мечты.
Один как ангел, с крыльями… О, гений!
Зачем в беспутном пире срамоты,
Для сладости обманчивого часа,
Принизился до мелких тварей ты!
Твое лицо — бесстыдная гримаса,
Ты нагло манишь, высунув язык, —
Усталых ласк приправа и прикраса.
Ты знаешь, как продлить тягучий миг,
Ты, с холеными женскими руками,
Любовь умом обманывать привык.
Другой наглец, с кошачьими зрачками,
Над Городом Безумия склонясь,
Всем обликом хохочет над врагами.
Он гибок, сладострастен, и как раз
В объятьи насмерть с хохотом удавит,
Как змей вкруг тела нежного виясь.
Еще другой, всего превыше ставит
Блаженство в щель чужую заглянуть,
Глядит, дрожит, и грязный рот слюнявит.
Еще, с лицом козла, ввалилась грудь,
Глаза глубоко всажены в орбиты,
Сумел он весь в распутстве потонуть.
Вы разны все, и все вы стройно слиты,
Вы все незримой сетью сплетены,
Равно в семье единой имениты.
Но всех прекрасней в свите Сатаны,
Слияние ума и лицемерья,
Волшебный образ некоей жены.
Она венец и вместе с тем преддверье,
Карикатура ей изжитых дум,
Крылатый коршун, выщипавший перья.
Взамену чувств у ней остался ум,
Она ханжа в отшельнической рясе,
Иссохший монастырский толстосум.
Застывши в иронической гримасе,
Она как бы блюдет их всех кругом.
Ирония прилична в свинопасе.
И все они венчают — Божий Дом!
Шабаш