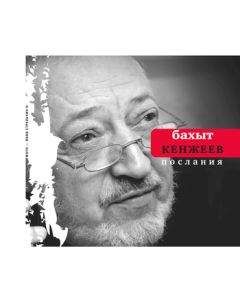Бахыт Кенжеев - Невидимые
Урок литературы
Пока мы топчемся в передних
бесчестной вечности, наследник
муз светлых молится звезде
вечерней и ночному зверю.
Зачем же я в иное верю,
зачем мне чудится везде
Сальери (классика соцарта),
взасос целующий Моцарта,
и лесопильных школьных парт
ряды, где юно-пионеры
цветут, как веточки омелы,
в недобрых дебрях бакенбард
орденоносного пиита?
Лапта и прятки позабыты,
они за Горького горой,
любовь к отечеству слепа в них,
а за спиной — безносый Павлик
Морозов, гипсовый герой.
Скажи, остряк, в каком астрале
мы дружным хором повторяли
лихие богохульства, где
в нечистой блинной ли, пельменной
сидит художник непременный,
рукою роясь в бороде?
Костры, табак, ремни тугие.
Горбатый друг, от ностальгии
как ты излечишься, пока
хоронит погребальщик юный
свой алый галстук, и латунный
горн, и ручного хомяка?
***
Уверяешь, что жизнь надоела?
Глупость. Поезжай в Прованс, говорю, скорее.
Сьешь в Марселе густой ушицы из среди —
земноморской рыбы, с шафраном, с перцем,
разливным вином ее запивая
с несравненным привкусом ежевики.
Отобедав, сядь на туристский катер,
что тебя доставит в старинный замок
Иф, взгляни на нору в известняковой
стенке, сквозь которую Монте-Кристо
лазил в гости к таинственному аббату,
горевать, обучаться любви и мести.
Разыщи крепостную башню, откуда графа
в полотняном мешке зашитом кидали в волны
(грохотала буря, сверкали молнии),
а потом отправься к руинам римским,
над которыми венценосный Август
до сих пор простирает грозно
руку мраморную, а потом не минуй
городка, где журчит такая
речка чистая, что глазам не веришь,
лоб смочи хрустального, горной влагой,
вспоминая Петрарку, который тоже
умывался ею на беспощадном солнце,
причитал «Лаура моя, Лаура…»
***
Золотое, сизое, безоглядное заоконное полотно!
По-старинному не выходит, а по-новому не дано:
не отмыть черного кобеля, не вылечить глаукому.
Утренние скворцы в предгорьях Памира поют хвалу
птичьему богу осени — стервятнику? или орлу?
или подобному им, короткоклювому и худому?
Телефонная связь хромает, даже тихого «что с тобой?»
не спросить, задыхаясь. Свежевыпавший, голубой
на горах рассиялся снег. Как, милая, дали маху
мы, как натерпелись, сколько бессильных слез
пролили. По аллее парка, рыча, беспризорный пес
тащит в желтых зубах перепуганную черепаху.
Что же мне снилось вчера? То ли жизнь, то ли смерть моя.
Длинноволосая юная женщина на песчаном дне ручья
спящая, несомненно, живая, в небеленом холщовом
платье. Я человек недобрый, тем более на заре,
не люблю самопальной фантастики в духе пре —
рафаэлитов, мистики не терплю, и ночами «чего еще вам?»
повторяю нечистым духам, «оставьте мне, — говорю, —
сны хотя бы». К медно-серому азиатскому ноябрю
я добрел, наконец, в городок приземистый и сиротский,
где запивает лепешку нищий выцветшим молоком.
Словно гранат на ветке, лакомый мир, к которому ты влеком
только любовью, как улыбнулся бы бедный Бродский,
отводя опустевший взгляд к перекрытому до весны
перевалу. Обидней всего, что — ничьей вины
или злого умысла. Кофейник шумит на плитке.
Шелести под водой, трава, те же самые у тебя права
и слова, что у молчаливого большинства,
те же самые невесомые, невидимые пожитки.
***
…не скажу, сколько талой воды утекло с тех пор,
киселя, и крови, и меда, и молока.
Закрываю глаза — а по речке плывет топор,
уж не тот ли самый, что снился Ивану К.?
Уж не тот ли, что из петли Родиона Р.
взмыл в высокий космос в краю родном,
чей восход среди скрежетавших небесных сфер
изучал ночами каторжник-астроном?
Нет, по долгой орбите вокруг земли
все в чешуйках кремния, в гамма-лучах, в огне
аммиачном, ладные корабли
закружили гордо, на радость моей стране.
Не роняй слезы, если злато ржавеет, есть
добрый пуд листового железа и чугуна.
«Кто на свете главный? Челюсть? А может, честь?
Ни на что не годна эта челядь, убога и голодна»,
сокрушается у костра молодой пророк,
собираясь почтительно возвращать билет.
Я его любил, дурака, я и сам продрог
от безлюдной злости, которой названья нет,
а и есть — что толку. Пусть звери — овчарка, барс,
агнец, волк, — за твоей спиной, простуженный человек,
знай глядят в огонь, где Творец, просияв, умолк.
И несется в ночь перегруженный наш ковчег.
***
В замочной скважине: колеблющийся свет,
блаженный муж терзает хлебный мякиш,
и пахнет смертью, горькой и целебной.
Случайный сорванец глядит и, напрягая слух,
пытается понять обрывки разговора
между тринадцатью бродягами. Они
взволнованны, как будто ждут чего-то
неведомого. И, сказать по чести,
немного смысла в их речах несвязных.
«Что скажешь нам, Фома?» «Учитель, что есть страх?
Ужель всех поразит секирой роковою?»
«Нет, вера и ответ есть дерево и прах,
Олива, облако, медведица, секвойя».
«Ты снова притчами?» Спиной к огню
сидят ученики, не улыбаясь. «Если
б ты твердо обещал, что, кровь твою вкусив,
вслед за тобой мы тоже бы воскресли…»
«Я обещал» Встает другой, кряхтя,
и чашу жалкую вздымает. Млечный
сияет путь. Соскучившись, уйдет дитя
от кипарисовых дверей, от жизни вечной.
Пopa — его заждались мать с отцом.
Сад Гефсиманский пуст. Руины храма. Столько
лет впереди. Совеем не страшно
глядеть в полуразрушенное небо.
Собака лает. И бренчат доспехи
полночных стражников, как медные монеты
в кармане нищего. Как в старые меха
не влить вина игристого, как воду
мечом не разрубить, так близится к концу
время упорное — кипя, меняя облик тленный —
уже во всем подобнее терновому венцу
на голове дряхлеющей вселенной.
***
В чистом поле торчу, как перст, не могу упасть я,
хоть давно поражен на корню нехорошей вестью.
На исходе смелости и злосчастья
зимний ветер пахнет сырою шерстью,
да листвой горелой. Беспрекословный
подступает вечер. Казалось бы, лавром, миртом
наслаждайся. Но даже фиал любовный,
с чем его ни мешай, отдает муравьиным спиртом.
Не сердись на меня, всесильная Афродита,
умный плачет, а глупый — шарик из хлеба лепит.
Разорившемуся, увы, не дают кредита,
а влюбленный лепет, нахмурившись, пишут в дебет.
Помечтать — был бы я, например, Гораций,
вот гулял бы в тоге с пурпурной оторочкой!
Был один поэт — как напьется, так сразу драться
и скандалить, и хвастаться свежей строчкой.
Был он мой учитель, знал зло и благо,
как хотел, вертел просветленным словом.
Вот бы выпить с кем — только бедолага
скоро десять лет, как лежит под крестом дубовым.
***
Под свист метели колыбельной
вздремни, товарищ мой похмельный —
синяк под глазом, ночь нежна.
Стакан воды водопроводной
тебе по комнате холодной
несет усталая жена.
Костяшки на небесных счетах
стучат, спать не дают. Еще так
недавно нас пленяли сны
надежды, славы, тихой веры.
Но в темноте все кошки серы,
любые ангелы страшны,
и приобщиться к дивной тайне
разрешено такой ценой,
что ужасался даже Райкер —
Мария Рильке. Бог — с тобой,
ты — с ним, ты шепчешь «благодарствуй»
сквозь сон, и «музыку готовь»,
и вдруг «да минует нас барский
гнев и господская любовь…»
***
Вот человек, он робок, как и я,
он суеверен, крика воронья
боится, и такой же тихий страх
владеет им в присутственных местах,
где похоронный царствует уют,
висит портрет монарха в строгой раме
и клерки светлоглазые снуют,
увертливыми ходят пескарями
над отмелью (а за окном — кларнет,
зеленый лист, случайный рыжий локон)
и весело в соседний кабинет
плывут метать чернильную молоку.
Там в воздухе рассеян тонкий яд,
там, сжав крестообразную награду
до боли в пальцах, наклонился над
тяжелой папкой с надписью «К докладу»
старик Каренин. «Если эта связь
преступна, то она достойна кары»,
он думает, и «жизнь не удалась»
выводит вместо визы. Тротуары
просохли. Дернуть водки? Нет, винца.
Деревья, звери — кто еще, скажи, мой
доносчик? — что-то просят у творца.
А он молчит в дали непостижимой.
***
«Как прекрасен мир, — майский жук шелестит, — пойми!»
У каждого — ангел-хранитель.
Младенцы смирно лежат в капусте.
Отчего же я так подавлен, ma belle amie?
Отчего я так безобразно грустен?
У меня мигрень, у тебя мигрень.
На дворе отпахла развесистая сирень,
пожелтевший том Александра Грина
у постели. Умыться, вздохнуть, а за —
тем стопарик водки, прикрыв глаза,
закусить таблеткою аспирина,
отложить дела, выйти в парк, где листва
молодая кленовая — что страницы
Книги Царств. Ты еще жива?
Жив и я, но уже пора суетиться,
собираться, завешивать шелком пролом в окне.
В этот век, глухой и ветхозаветный,
слишком трудно таиться и пробуждаться, не
предаваясь печали и ненависти, мой светлый.
Где же маяк, переносной мой огонь в тумане?
Длинноволосый бродяга, покачиваясь на ходу,
мыча в честь весны, ухмыляясь, повторяет то «ом мани
падме кум», то, если не ошибаюсь, «dum
spiro — spero». Закашлялся, губы вытер.
Подозвал пугливую белку, скосил осторожный взгляд.
Узнаешь на нем траченный молью свитер,
который я выбросил года четыре тому назад?
Это он днем куражится, а по ночам «уснуть бы»
повторяет, скорчившись на скамейке, смешон и дик.
Это я раньше, завидовал, и, примеряя чужие судьбы,
огорчался до слез, а теперь привык,
и, на ветру прикуривая, закрывая ладонью пламя
одноразовой зажигалки, вижу, что истинам несть числа.
Вот и все открытие — за неладами, долгами, делами.
Да и что дела мои, радость, — табак, никотин, смола.
29 января 2001 года