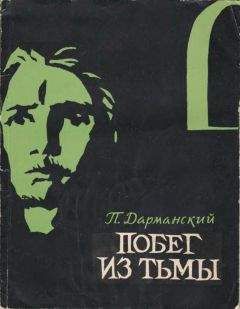Борис Пастернак - «Я понял жизни цель» (проза, стихотворения, поэмы, переводы)
Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.
Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам громыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», – говорил кто-нибудь на языке времени.
11
Вокруг издательства «Мусагет» образовалось нечто вроде академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовский, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер занимались с сочувственной молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирикой, эстетикой Гёте и Рихарда Вагнера, Бодлером и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией.
Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт и еще более поразительный автор «Симфоний» в прозе и романов «Серебряный голубь» и «Петербург», совершивших переворот в дореволюционных вкусах современников и от которых пошла первая советская проза.
Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную и разрушительную силу. Этот изъян излишнего одухотворения не ронял его, а вызывал участие и прибавлял страдальческую черту к его обаянию.
Он вел курс практического изучения русского классического ямба и методом статистического подсчета разбирал вместе со слушателями его ритмические фигуры и разновидности. Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слова – явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания.
Иногда молодежь при «Мусагете» собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне.
В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся над ней полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина.
Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад под названием «Символизм и бессмертие». Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы.
Доклад основывался на соображении о субъективности наших восприятий, на том, что ощущаемым нами звукам и краскам в природе соответствует нечто иное, объективное колебание звуковых и световых волн. В докладе проводилась мысль, что эта субъективность не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное, что это субъективность человеческого мира, человеческого рода. Я предполагал в докладе, что от каждой умирающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и которою он участвовал в истории человеческого существования. Главною целью доклада было выставить допущение, что, может быть, этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства. Что, кроме того, хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими спустя века после него по его произведениям.
Доклад назывался «Символизм и бессмертие» потому, что в нем утверждалась символическая, условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры.
Доклад произвел впечатление. О нем говорили. Я с него вернулся поздно. Дома я узнал, что задержанный болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой скончался на станции Астапово и что отец вызван туда телеграммою. Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал, к ночному поезду.
12
Тогда выезд за город был заметнее, чем теперь, сельская местность больше отличалась от городской, чем в настоящее время. С утра окно вагона наполнила и уже весь день не оставляла ровная, едва оживляемая редкими селениями ширь паров и озимей, тысячеверстная ширь России пахотной, деревенской, которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала. Землю уже посеребрили первые морозы, и необлетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине.
Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и барином всем барам и который, однако, из любви к ней и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по-мужицки.
13
Наверное, стало известно, что покойного будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная Софья Андреевна и, схватив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила!» И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась и как ее, едва живую, вытащили из пруда.
В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельною скалой. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельною молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолвствовать, и подавлять загадочностью поведения, и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским на свете, – с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороною.
А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже, думал я, до чего можно довести человека и более того: жену Толстого.
Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к «Онегину» и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.
14
Но в углу лежала не гора, а маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков, которых десятки он описал и рассыпал по своим страницам. Место было кругом утыкано невысокими елочками. Садившееся солнце четырьмя наклонными снопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими, детскими крестиками вычертившихся елочек.
Станционный поселок Астапово представлял в тот день нестройно шумевший табор мировой журналистики. Бойко торговал буфет на вокзале, официанты сбивались с ног, не поспевая за требованиями и бегом разнося поджаристые бифштексы с кровью. Рекою лилось пиво.
На вокзале были Толстые Илья и Андрей Львовичи. Сергей Львович прибыл в поезде, пришедшем за прахом Толстого для перевоза его в Ясную Поляну.
С пением «Вечной памяти» студенты и молодежь перенесли гроб с телом по станционному дворику и саду на перрон, к поданному поезду, и поставили в товарный вагон. Толпа на платформе обнажила головы, и под возобновившееся пенье поезд тихо отошел в тульском направлении.
Было как-то естественно, что Толстой успокоился, упокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели, и обняли их взором, и увековечили, навсегда на ней закрылись.
15
Если взять по одному качеству от каждого писателя, например, назвать страстность Лермонтова, многосодержательность Тютчева, поэтичность Чехова, ослепительность Гоголя, силу воображения Достоевского, – что сказать о Толстом, ограничив определение одной чертою?