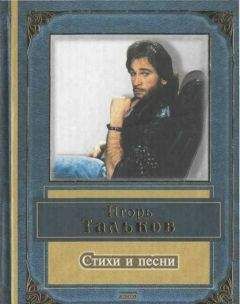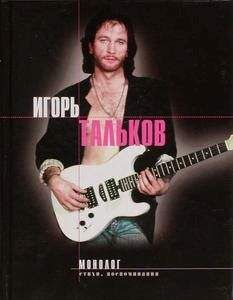Ольга Талькова - Игорь Тальков. Убийца не найден
Черт его знает, в каком доме я живу?! Ну, живу. Вот река плещется, а мы бедные: «На берегу реки стоит мой дом…»
– Назад!
– Не буду!
Ушла, села. Сижу.
Режиссер выждал время, подходит опять:
– Ольга, на сцену!
– Не получится!
– Получится! Пока ты думаешь, как тебе сказать, у тебя действительно никогда не получится. Вот, смотри: берег, твой дом – несчастная лачуга. Ты вышла из лодки, встретила человека и рассказываешь ему.
Получилось! Тут только один раз нужно почувствовать, а дальше запоминается и идет уже само собой.
Со своими концертами и спектаклями мы ездили по лагерям. Ставили маленькие скетчики, пьесы, концерты: хор, танцевальные номера, пение. Первыми нашими зрителями бывали вольные – люди, обслуживающие лагеря, и их жены. Они, бедные, в этих забытых Богом медвежьих углах ничего не видели. Концерты наши всегда проходили с одинаковым успехом – на «бис». Я чувствовала себя в среде артистов, как в своей семье. Наш начальник устраивал нам маленькие новогодние праздники. Приносил торт. За столом произносил тосты, желал нам при выходе на свободу остаться такими же хорошими людьми, какими он нас знал, не озлобиться и продолжать жить. Все мы были ему очень благодарны. Я всю жизнь молилась за него, за все хорошее, что он для нас сделал. Его в конце концов по доносу сняли с работы за панибратское отношение с заключенными, и его дальнейшая судьба мне неизвестна.
В лагерном театре я познакомилась с прекрасным человеком, мои будущим мужем – Тальковым Владимиром Максимовичем. Он был профессиональным драматическим артистом, прекрасно танцевал, декламировал так, что шел «мороз по коже». У него были врожденная интеллигентная выправка и прекрасные манеры. Мне очень нравился жест, когда он, здороваясь, приподнимал шляпу двумя пальцами. Мои ребята тоже были галантными с малых лет, я не помню такого случая, чтобы кто-нибудь из них, например, не пропустил женщину вперед. О долагерной жизни моего мужа я мало что знаю, он всегда очень скупо делился со мной своими воспоминаниями. Вообще мы старались забыть о тяжелом прошлом – несправедливости, голоде, холоде, тяжелых работах – обо всем, что нам суждено было пережить. Мы чаще вспоминали о хорошем. Хорошее запоминается лучше, а плохое забывается, каким бы тяжелым оно ни было.
Я знаю, что Владимир Максимович родился в Польше. Его мама была полячка, а отец – украинец, казак, служил в Польше. Мама владела маленькой прачечной, в которой сама стирала. Жили они неплохо, но отец, как истинно русский патриот, все время стремился возвратиться домой, в Россию. В 1914 году он наконец переехал и привез с собой семью. Вскоре в России грянула революция, а вместе с ней – голод и разруха. Мама и была бы рада вернуться назад домой, в Польшу, но это было невозможно. Приходилось как-то приспосабливаться к жизни в России. Скупали соль, перевозили в ту местность, где ее не было, и меняли на продукты. Владимир Максимович ездил с мамой переводчиком. Отец работал на железной дороге, мама стирала на людей. В то время Владимир Максимович всей душой поверил в революцию, в грядущий коммунизм. В семнадцать лет имел оружие. Видел Ленина, слышал его выступление на Красной площади. Ленин говорил тогда:
– Вы – счастливое поколение, будете жить при коммунизме!
Владимир Максимович был убежденный коммунист. На эту тему я с ним часто еще в лагере спорила. Он говорил:
– Ты еще слишком молода, я старше тебя на шестнадцать лет. Да действительно, сейчас еще очень трудно. Но ведь мы строим новое общество – такое, какого не знала история. Нам не может быть легко.
А я к тому времени уже насмотрелась на жизнь. Помню, как по радио пели «Страна моя любимая, ты самая прекрасная», а в это время в той же Усманке дети голодные и без штанов бегали. Голод там за пять лет до войны уже был. И это за сто километров от Томска, а за пятьсот-шестьсот как там люди жили? Ни радио у них, ни газет не было. Но мой муж все равно был уверен: «Я тебя перевоспитаю».
Однако перевоспитываться пришлось ему, а не мне. Уже на воле, в Щекино, через много лет (видимо, все это время в нем шел внутренний процесс переоценки) он сказал однажды:
– Да, ты была права.
Со мной такое часто бывало в жизни. Я никогда не вступала в спор с кем бы то ни было, не взвесив все «за» и «против». Бывало, Игорь не соглашался со мной в чем-то. Я отвечала ему в таком случае:
– Подожди, потом увидишь, вспомнишь мои слова.
И через некоторое время действительно он мне вдруг говорил: «Мамочка, ты, как всегда, была права…»
Не раз предупреждала я его: «Игорь, тебе не дадут долго петь твои песни!» Вот, наверное, сейчас на том свете он мне тоже говорит:
– Мамочка, ты, как всегда, была права!..
Я уже упоминала о том, что мы встретились с Владимиром Максимовичем в лагерном театре, полюбили друг друга, решили жить вместе на воле. Я ждала ребенка и решила сохранить его. До четырех месяцев беременности выступала на сцене, танцевала. Может быть, поэтому Вова у меня родился таким «попрыгунчиком». В скором времени наш театр развалили. Наиболее талантливых актеров отправили руководить самодеятельностью в другие лагпункты. Я осталась в зоне работать художником. Когда объявила о своей беременности врачу, она сказала, что с моим сердцем рожать – самоубийство. Но я почему-то была уверена, что все кончится хорошо и для меня, и для ребенка; старалась не нервничать, ведь и это могло повредить… Готовила себя к материнству, насколько это возможно было в тех условиях. Когда на последнем месяце беременности я снова появилась у врача, она пришла в ужас:
– Что ты наделала, можешь умереть во время родов!
Родители Игоря Талькова – Владимир Максимович и Ольга Юльевна
Однако я родила без мучений, быстро. Родился мальчик, которого я назвала Владимиром в честь моего брата, замерзшего в Якутии. Мы с ребенком были в женской зоне, правда, ребенок содержался отдельно, а отец был в мужской зоне и не мог видеть нашего малыша. И тем не менее как же я была счастлива! Этот теплый комочек, которому я отдавала всю свою любовь, так согревал меня в жизни. После рождения моего Вову, как и других детей, рожденных в зоне, поместили в ясли, которые были расположены на вольной территории. Нас, кормящих матерей, семь раз в сутки водили на кормежку под конвоем. Детский врач, Лина Антоновна, бывшая заключенная, с большой любовью относилась к нашим детям: жалела, ворковала над ними, как родная мать. Кормящим матерям выдавали отдельное питание – молоко, масло, сахар. Дети были вольными, о них заботились. Я все эти дополнительные продукты съедала, потому что думала только о своем ребенке, о его здоровье. А ведь были у нас мамаши, из воровок в основном, которые производили на свет детей только для того, чтобы получать дополнительные продукты. Они их выменивали потом на наряды, а чтобы была видимость молока – съедали селедку и выпивали побольше чая. Можно представить, каким молоком они кормили несчастных детей, которые круглосуточно кричали от голода. Лина Антоновна видела нас всех насквозь, таких матерей она лишала кормлений. Некормящие матери могли видеть своих детей только раз в неделю. Кстати, некоторые воровки вообще не хотели выходить на свободу. Они говорили:
– Здесь хоть кормят, а на волю выйду – опять воровать начну.
Сначала, когда приходилось кормить часто – семь раз в сутки, мы не работали. Едва успевали ходить туда и обратно на кормления под конвоем. Только успеешь перестирать распашонки и пеленки, как снова кричат:
– На кормежку!
Кстати, казенной детской одеждой я не пользовалась: во-первых, ее не хватало, а во-вторых, эта одежда очень напоминала тюремную робу. Жесткие, застиранные распашонки, которые стояли колом и хрустели. Я покупала материал в ларьке и все шила сама. Распашонки, носовые платочки у меня были обвязаны кружевом. Штанишки я тоже шила сама. Иногда в яслях мне выдавали сразу четыре пары грязных штанишек.
– Сколько же раз в день мой Вовка оправляется?
– Тут не только твой Вовка, мы и другим детям его штаны надевали.
– Как же так?!
– У других детей штанов нет, а у твоего Вовки целая стопка лежит. Что же им, бедным, без штанов быть?
Меня всегда это возмущало:
– Ведь у них тоже мамы есть. Что же они об одежде не думают?!
Вова с рождения был очень спокойный красивый ребенок. Мне даже завидовали некоторые мамаши; часто я слышала, как они говорили:
– Дети очень меняются, часто красивые с рождения потом делаются уродами.
Я не обращала внимания, молча кормила и любовалась своим ребенком.
Один раз, помню, проспала ночное кормление. Что-то делала, устала, прилегла на пятнадцать минут, а меня пожалели и не разбудили в двенадцать часов. Проснулась, а мам нет. Ужас! Побежала на вахту, умоляла, чтобы меня одну отвели.