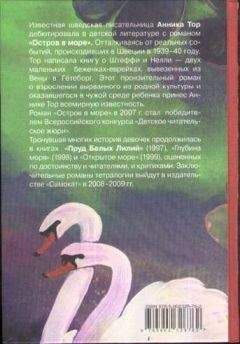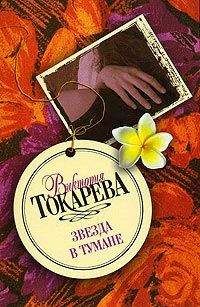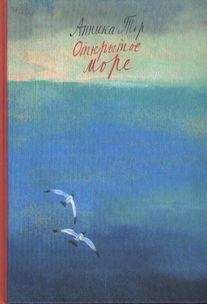Евгений Евтушенко - Братская ГЭС
Б р а т с к а я Г Э С
о б р а щ а е т с я к п и р а м и д е:
Пирамида,
снова и снова
утверждаю с пеной у рта:
революций первооснова
есть не злоба,
а доброта.
Если слезы сквозь крыши льются,
строй лишь внешне несокрушим,
и заваривается
революция,
и заваливается
режим.
Вот я вижу:
летят воззвания,
уголь - мастеру-гаду в рот,
и во мне - не воды взвывания,
а неистовых стачек рев.
И Россия идет к избавленью,
кровью тысяч землю багря,
сквозь централы, расстрел на Лене,
сквозь Девятое января.
И в боях девятьсот пятого,
и в маевках, флагами машущих, -
всюду брезжит светло,
незапятнанно
яснолобость симбирского мальчика.
Кто-то ночью,
петляя, смывается,
кто-то прячет шрифты под полой,
и, как лава, из глоток в семнадцатом
сокрушающее:
«Долой!»
Но вновь,
оттирая правду назад,
неправда к власти протискивается.
И вот,
пирамида,
взгляни:
Петроград.
Временное правительство.
Под вихрь витийственных словечек,
о славе грезя мировой,
скакнул в премьеры человечек
с вертлявой полой головой.
Он восклицал о прошлом горько.
Он лясы лисанькой точил,
а потихоньку-полегоньку
все то же прошлое тащил.
«Народ! Народ!» -
кричал под марши,
но лучше уж бесстыдный гнет,
чем угнетать народ, как раньше,
крича:
«Да здравствует народ!»
Следили Зимнего колонны
ловчилу в шулерском дыму
с крапленной мастерски колодой
министров, надобных ему.
Он передергивал шикарно,
но пальцы чувствовали крах.
Так шла игра. Менялись карты,
но оставался тот же крап.
А в Зимнем все еще банкеты.
Бокалы узкие звенят,
и дарят девочки букеты,
как это дамы им велят.
И в залах звон, как будто бал там,
и подхорунжий с алым бантом
при николаевских усах
стоит у двери на часах.
И вот, подняв бокал с шампанским,
встает премьер с лицом шаманским,
с просветом в хилых волосах.
Здесь революцией клянутся,
за революцию здесь пьют,
а сами ссорятся, клюются
и все на свете продают.
У них интриги и раздоры,
хоть о единстве и галдят,
и Ярославли и Ростовы
на них презрительно глядят.
Их презирают и солдаты,
и те, кто сеют и куют,
и человеки, что салаты
им, изгибаясь, подают.
С усмешкой сумрачной и странной,
сосредоточен, хитроват,
на их машины под охраной
глядит рабочий Петроград.
Он видит, видит их бессилье.
Еще немного - и пора...
Игра в правительство России -
всегда опасная игра.
Глядит пирамида,
как тяжко, огромно,
сопя,
разворачивается «Аврора»,
как прут на Зимний орущие тысячи...
Глядит пирамида
все так же скептически:
«Я вижу:
мерцают в струенье дождя
штыки - с холодной непримиримостью,
но справедливость, к власти придя,
становится несправедливостью.
Людей существо - оно таково...
Кто-то из древних молвил:
чтобы понять человека,
его
надо представить мертвым.
Тут возразить нельзя ничего.
Согласна, но лишь отчасти.
Чтобы понять человека,
его
надо представить у власти».
Но Братская ГЭС
в свечении брызг
грохочет потоком вспененным:
«А ты в историю снова всмотрись.
Тебе я отвечу Лениным!»
ИДУТ ХОДОКИ К ЛЕНИНУ
Проселками
и селеньями
с горестями,
боленьями
идут
ходоки
к Ленину,
идут ходоки к Ленину.
Метели вокруг свищут.
Голодные волки рыщут.
Но правду крестьяне ищут,
столетьями
правду ищут.
Столькие их поколения,
емелек и стенек видевшие,
шли,
как они,
к Ленину,
но не дошли,
не выдюжили.
Идут ходоки,
зальделые,
все, что наказано, шепчут.
Шаг
за себя делают.
Шаг -
за всех недошедших.
А где-то в Москве
Ленин,
пришедший с разинской Волги,
на телеграфной ленте
их видит
сквозь все сводки.
Он видит:
лица опухли.
Он слышит хрипучий кашель.
Он знает:
просят обувки
несуществующей каши.
Воет метель,
завывает.
Мороз ходоков
корежит,
и Ленин
себя забывает -
о них
он забыть
не может.
Он знает,
что все идеи -
только пустые «измы»,
если забыты на деле
русские слезные избы.
...Кони по ленте скачут.
Дети и женщины плачут.
Хлеб
кулаки
прячут.
Тиф и холера маячат.
И, ветром ревущим
накрениваемые,
по снегу,
строги и суровы,
идут ходоки
к Ленину,
похожие на сугробы.
Идут
ходоки
полями,
идут
ходоки
лесами,
Ленин -
он и Ульянов,
и Ленин -
они сами.
И сквозь огни,
созвездья,
выстрелы,
крики,
моленья,
невидимый,
с ними вместе
идет к Ленину
Ленин...
А ночью ему не спится
под штопаным одеялом.
Метель ворожит:
«Не сбыться
великим твоим идеалам!»
Как заговор,
вьется поземка.
В небе
за облака
месяц,
как беспризорник,
прячется
от ЧК.
«Не сбыться! -
скрежещет разруха. -
Я все проглочу бесследно!»
«Не сбыться! -
как старая шлюха,
неправда гнусит. -
Я бессмертна!»
«В грязь!» -
оскалился голод.
«В грязь!» -
визжат спекулянты.
«В грязь!» -
деникинцев гогот.
«В грязь!» -
шепоток Антанты.
Липкие,
подлые,
хитрые,
всякая разная мразь
ржут,
верещат,
хихикают:
«В грязь!
В грязь!
В грязь!»
Метель панихиду выводит,
но вновь - над матерью-Волгой
идет он
просто Володей
и дышит простором,
волей.
С болью невыразимой
волны взметаются,
брызжут.
В них,
как в душе России,
Стенькины струги брезжут.
Волга дышит смолисто,
Волга ему протяжно:
«Что,
гимназист из Симбирска,
тяжко быть Лениным,
тяжко?!»
Не спится ему,
не спится.
но сквозь разруху, метели
он видит живые лица,
словно лицо идеи.
И за советом к селеньям,
к горестям
и боленьям
идет
ходоком
Ленин,
идет
ходоком
Ленин...
«Да, благороден,
да, озарен, -
в ответ пирамида устало, -
но зря на людей надеется он.
Я,
например,
перестала.
Жалко мне Ленина:
идеалист.
Цинизм
уютней.
Цинизм
не обманывает...»
А Братская ГЭС:
«Ты вокруг оглядись:
нет,
он обманывает,
он обламывает.
Я
не за сладенько робких маниловых
в их благодушной детскости.
Я
за воинственных,
а не молитвенных
идеалистов действия!
За тех,
кто мир переделывать взялся,
за тех,
кто из лжи и невежества
все человечество
за волосы
тащит,
пусть даже невежливо.
Оно упирается,
оно недовольно,
не понимая сразу того,
что иногда ему делают больно
только затем,
чтоб спасти его...»
Но пирамида остроугольно
смотрит:
«Ну что же, нас время рассудит.
Что, если только и будет больно,
ну, а спасенья не будет?
И в чем спасенье?
Кому это нужно -
свобода,
равенство,
братство всемирное?
Прости,
повторяюсь я несколько нудно,
но люди -
рабы.
Это азбучно, милая...»
Но Братская ГЭС восстает против рабского.
Волны ее гудят, не сдаются:
«Я знаю и помню
другую азбуку -
азбуку революции!»
АЗБУКА РЕВОЛЮЦИИ