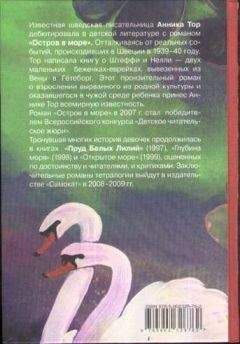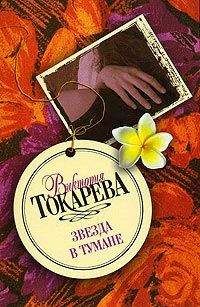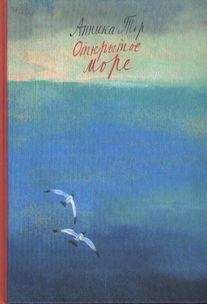Евгений Евтушенко - Братская ГЭС
ПЕТРАШЕВЦЫ
Барабаны,
барабаны...
Петрашевцев казнят!
Балахоны,
балахоны,
словно саваны,
до пят.
Холод адский,
строй солдатский,
и ОНИ -
плечом к плечу.
Пахнет площадью Сенатской
на Семеновском плацу.
Тот же снег
пластом слепящим,
и пурги все той же свист.
В каждом русском настоящем
где-то спрятан декабрист.
Барабаны,
барабаны...
Нечет-чет,
нечет-чет...
Еще будут баррикады,
а пока что
эшафот.
А пока что -
всполошенно,
мглою
свет Руси казня,
капюшоны,
капюшоны
надвигают на глаза.
Но один,
пургой обвитый,
молчалив и отрешен,
тайно всю Россию видит
сквозь бессильный капюшон.
В ней, разодран,
перекошен,
среди призраков,
огней,
плача,
буйствует Рогожин.
Мышкин мечется по ней.
Среди банков и лабазов,
среди тюрем и сирот
в ней Алеша Карамазов
тихим иноком бредет.
Палачи, -
неукоснимо
не дает понять вам страх,
что у вас -
не у казнимых -
капюшоны на глазах.
Вы не видите России,
ее голи,
босоты,
ее боли,
ее силы,
ее воли,
красоты...
Кони в мыле,
кони в мыле!
Скачет царский указ!
Казнь короткую сменили
на пожизненную казнь...
Но лишь кто-то
жалко-жалко
в унизительном пылу,
балахон срывая жадно,
прокричал царю хвалу.
Торопился обалдело,
рвал крючки и петли он,
но, навек приросший к телу,
не снимался балахон.
Барабаны,
барабаны...
Тем, чья воля не тверда,
быть рабами,
быть рабами,
быть рабами навсегда!
Барабаны,
барабаны...
и чины высокие...
Ах, какие балаганы
на Руси
веселые!
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
И когда, с возка сошедший,
над тобою встал, толпа,
честь России - Чернышевский
у позорного столба,
ты подавленно глядела,
а ему была видна,
как огромное «Что делать?»,
с эшафота вся страна.
И когда ломали шпагу,
то в бездейственном стыде
ты молчала, будто паклю
в рот засунули тебе.
И когда солдат, потупясь,
неумелый, молодой,
«Государственный преступник»
прикрепил к груди худой,
что же ты, смиряя ропот,
не смогла доску сорвать?
Преступленьем стало - против
преступлений восставать.
Но светло и обреченно
из толпы наискосок
чья-то хрупкая ручонка
ему бросила цветок.
Он увидел чьи-то косы
и ручонку различил
с золотым пушком на коже,
в блеклых пятнышках чернил.
После худенькие плечи,
бедный ситцевый наряд
и глаза, в которых свечи
декабристские горят.
И с отцовской тайной болью
он подумал: будет срок,
и неловко бросит бомбу
та, что бросила цветок.
И, тревожен и задумчив,
видел он в тот самый день
тени Фигнер и Засулич
и халтуринскую тень.
Он предвидел перед строем,
глядя в сумрачную высь:
бомба мир не перестроит,
только мысль - и только мысль!
Встанет кто-то, яснолобый, -
он уже невдалеке! -
с мыслью - самой страшной бомбой
в гневно поднятой руке!
ЯРМАРКА В СИМБИРСКЕ
Ярмарка!
В Симбирске ярмарка!
Почище Гамбурга!
Держи карман!
Шарманки шамкают,
а шали шаркают,
и глотки гаркают:
«К нам,
к нам!»
В руках приказчиков
под сказки-присказки
воздушны соболи,
парча тяжка,
а глаз у пристава
косится пристально
и на «селедочке»[1] -
перчаточка.
Но та перчаточка
в момент с улыбочкой
взлетает рыбочкой
под козырек,
когда в пролеточке
с какой-то цыпочкой,
икая,
катит
икорный бог.
И богу нравится,
как расступаются
платки,
треухи
и картузы,
и, намалеваны
икрою паюсной,
под носом дамочки
блестят усы.
А зазывалы
рокочут басом.
Торгуют юфтью,
шевром,
атласом,
прокисшим квасом,
пречистым Спасом,
протухшим мясом
и Салиасом[2].
И, продав свою картошку
да хвативши первача,
баба ходит под гармошку,
еле ноги волоча
И поет она,
предерзостная,
все захмелевбя,
шаль за кончики придерживая,
будто молодая:
«Я была у Оки,
ела я-бо-ло-ки,
с виду золоченые -
в слезыньках моченые.
Я почапала на Каму.
Я в котле сварила кашу.
Каша с Камою горька.
Кама - слезная река.
Я поехала на Яик,
села с миленьким на ялик.
По верхам да по низам -
все мы плыли по слезам.
Я пошла на тихий Дон.
Я купила себе дом.
Чем для бабы не уют?
А сквозь крышу слезы льют...»
Баба крутит головой,
все в глазах качается.
Хочет быть молодой,
а не получается.
И гармошка то зальется,
то вопьется,
как репей...
Пей, Россия,
ежли пьется,
только душу не пропей!..
Ярмарка!
В Симбирке ярмарка!
Гуляй,
кому гуляется!
А баба пьяная
в грязи валяется.
В тумане плавая,
царь похваляется...
А баба пьяная
в грязи валяется.
Корпя над планами,
министры маются...
А баба пьяная
в грязи валяется.
Кому-то памятник
подготовляется...
А баба пьяная
в грязи валяется.
И мещаночки,
ресницы приспустив,
мимо,
мимо:
«Просто ужас!
Просто стыд!»
И лабазник стороною,
мимо,
а из бороды:
«Вот лежит...
А кто виною?
Все студенты
да жиды...»
И философ-горемыка
ниже шляпу на лоб
и, страдая гордо, -
мимо:
«Грязь -
твоя судьба, народ!»
Значит, жизнь такая подлая -
лежи
и в грязь встывай?!
Но кто-то бабу под локоть
и тихо ей:
«Вставай...»
Ярмарка!
В Симбирске ярмарка!
Качели в сини,
и визг,
и свист,
и, как гусыни,
купчихи яростно:
«Мальчишка с бабою...
Гимназист!»
Он ее бережно ведет за локоть,
он и не думает, что на виду.
«Храни Христос тебя,
яснолобый,
а я уж как-нибудь сама дойду...»
И он уходит,
идет вдоль барок
над вешней Волгой,
и, вслед грустя,
его тихонечко крестит баба,
как бы крестила свое дитя.
Он долго бродит...
Вокруг все пасмурней...
Охранка - белкою в колесе.
Но как ей вынюхать,
кто опаснейший,
когда опасны в России все!
Охранка, бедная,
послушай, милая:
всегда опасней, пожалуй, тот,
кто остановится,
кто просто мимо
чужой растоптанности
не пройдет.
А Волга мечется,
хрипя,
постанывая.
Березки светятся
над ней во мгле,
как свечки робкие,
землей поставленные,
за настрадавшихся на земле.
Ярмарка!
В России ярмарка!
Торгуют совестью,
стыдом,
людьми,
суют стекляшки, как будто яхонты,
и зазывают
на все лады.
Тебя, Россия,
вконец растрачивали
и околпачивали в кабаках,
но те, кто врали и одурачивали,
еще останутся в дураках!
Тебя, Россия,
вконец опутывали,
но не для рабства ты родилась.
Россию Разина,
Россию Пушкина,
Россию Герцена
не втопчут в грязь!
Нет,
ты, Россия,
не баба пьяная!
Тебе великая дана судьба,
и если даже ты стонешь,
падая,
то поднимаешь сама себя!
Ярмарка!
В России ярмарка!
В России рай,
а слез - по край,
но будет мальчик -
он снова явится -
и скажет праведное:
«Вставай...»
Б р а т с к а я Г Э С