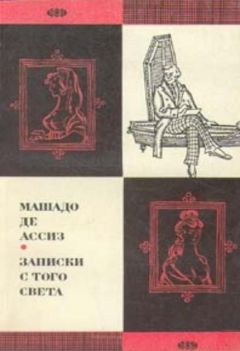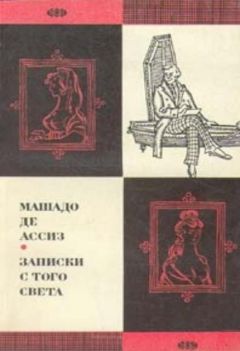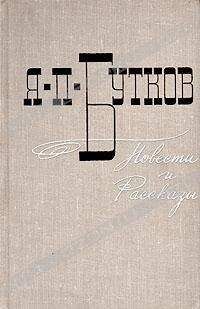Жуакин Машадо де Ассиз - Избранные произведения
— Жоанзиньо, довольно ребячиться.
Но Падуа упорно говорил о смерти, и встревоженная жена побежала просить донью Глорию, чтобы та уговорила ее мужа не лишать себя жизни. Мать застала соседа у колодца и строго поговорила с ним. Разве не глупо расстраиваться только потому, что ему уменьшили жалованье и перевели на старую должность? Взрослому мужчине, главе семьи, стыдно проявлять такое малодушие… Уговоры моей матери подействовали на Падуа: он сказал, что постарается исполнить ее волю.
— Нет, это не моя воля, а ваш долг.
— Пусть будет долг — не все ли равно.
Первое время Падуа, выходя из дому, жался к стене, опасаясь поднять глаза на прохожих. Не узнать было весельчака, который радостно приветствовал соседей, размахивая шляпой, а ведь таким его видели совсем недавно — до того, как он был назначен заместителем начальника. Однако время шло, и душевная рана начала затягиваться. Падуа снова стал интересоваться домашними делами, ухаживать за птицами, спокойно спать по ночам, разговаривать, прогуливаться по улицам. К нему вернулся покой, а вслед за тем и веселость: в один прекрасный день Жоан Падуа уселся с друзьями за карты. Он уже смеялся и шутил; рана совсем зажила.
С Падуа произошло нечто неожиданное. Он стал вспоминать о былом заместительстве не только без горечи и сожалений, но, напротив, с гордостью и даже хвастливо. Оно превратилось в излюбленную тему для разговоров, он упоминал о нем кстати и некстати.
— В то время, когда я был начальником…
Или:
— Да, я помню, это было до того, как я приступил к исполнению своих обязанностей, за несколько месяцев… Погодите-ка, меня назначили… Да, да, за полтора месяца до этого, именно за полтора месяца!
Или так:
— Совершенно точно: в то время я уже полгода был заместителем…
Так наш сосед снова вошел во вкус преходящей славы временного заместителя.
По мнению Жозе Диаса, Падуа олицетворял собой тщеславие. Падре Кабрал, на все находивший ответы в Священном писании, любил повторять, что на примере нашего соседа подтверждается поучение Елифаза Иову: «…наказания вседержителева не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их».
Глава XVII
ЧЕРВИ
«Он причиняет раны и сам обвязывает их!» Когда позднее я узнал, что копье Ахиллеса тоже само излечивало рану, которую наносило, мне захотелось написать рассуждение на эту тему. Я принялся рыться в старых, всеми забытых книгах, погребенных в библиотеках, сравнивая различные тексты и пытаясь доискаться, почему языческому герою и богу Израиля приписывались общие свойства. Я даже пустился на розыски книжных червей, чтобы они поведали мне о содержании текстов, изъеденных ими.
— Сеньор мой, — ответил мне длинный жирный червяк, — мы абсолютно ничего не знаем о текстах, которые грызем, мы не любим и не питаем ненависти к ним, мы не выбираем, что грызть, — мы просто грызем.
Больше я ничего не мог от него добиться. И все другие буквоеды, словно сговорившись, повторяли ту же самую песню. Ведь, скромно умалчивая о проглоченных текстах, они могут без конца жевать свою жвачку.
Глава XVIII
ПЛАН
Ни отца, ни матери не было в гостиной, когда мы с Капиту заговорили о семинарии. Пристально глядя мне в глаза, Капиту спросила, какое известие так расстроило меня. Когда я объяснил, в чем дело, она побелела словно мел.
— Но мне совсем не хочется учиться в семинарии, — поспешно добавил я, — напрасно будут меня уговаривать, все равно я откажусь.
Капиту молчала. Она сидела, слегка приоткрыв рот и устремив неподвижный взор перед собой. Тогда я начал клятвенно уверять ее, что никогда не стану священником. В те времена клялись часто и цветисто, жизнью и смертью. Я поклялся своим смертным часом — пусть свет померкнет в мой смертный час, если я поеду в семинарию. Капиту словно окаменела. Казалось, она не слушала меня. Мне захотелось закричать на нее, встряхнуть, но не хватало духу. Я вдруг испугался этой девочки, еще недавно беззаботно игравшей вместе со мной, смутился и оробел. Наконец она взяла себя в руки, хотя все еще была бледна, и гневно воскликнула:
— Святоша! Ханжа! Лицемерка!
Я оторопел. Капиту и моя мать очень любили друг друга; и я никак не ожидал от нее таких слов. Правда, меня Капиту любила сильнее и, конечно, совсем по-иному; этим и объяснялось ее отчаяние при вести о нашей близкой разлуке; но кто бы мог подумать, что она станет оскорблять мою маму и осуждать религиозные обряды, которым сама следовала? Ведь она тоже слушала мессы, а иногда даже ездила в церковь вместе с моей матерью в старой двуколке. Мать подарила ей четки, золотой крестик, часослов… Я хотел вступиться, но Капиту и рта не дала мне открыть, она продолжала кричать, что моя мать ханжа и святоша, да так громко, что я испугался, как бы не услышали ее родители. Никогда еще я не видел Капиту в такой ярости; она была словно одержимая. От испуга я совсем растерялся и снова принялся клясться и божиться, что ни за что на свете не буду учиться в семинарии и вечером объявлю об этом дома.
— Ты-то? Конечно, будешь!
— Нет.
— Посмотрим.
И умолкла. А через минуту передо мной сидела уже другая Капиту. Серьезная, тихая и сдержанная. Она попросила меня повторить слова Жозе Диаса; я рассказал ей все, опустив лишь те места, где речь шла о ней.
— А какой смысл Жозе Диасу напоминать о семинарии? — спросила она.
— Да никакого. Просто он хотел причинить всем неприятность. Злюка противный, он еще поплатится за это. Как только я стану хозяином в доме, я его мигом выгоню на улицу, можешь быть уверена, долго раздумывать не стану. Мама чересчур добра и обращает на него слишком много внимания. Мне показалось, разговор окончился слезами.
— Жозе Диас плакал?
— Нет, плакала мама.
— Отчего же она расстроилась?
— Понятия не имею; я слышал только, как ее уговаривали не плакать. А приживал сделал вид, что раскаялся, и вышел из комнаты; тут я убежал на веранду, боясь попасться ему на глаза. Но погоди, он мне за все заплатит.
Сжимая кулаки, я выкрикивал всевозможные угрозы. И теперь, когда я вспоминаю прошлое, это не вызывает у меня смеха; дети и подростки не выглядят смешными в таких случаях. Юноша, зрелый мужчина и особенно старик могут показаться смешными. А в пятнадцать лет есть даже какая-то прелесть в неисполненных угрозах.
Капиту сосредоточенно размышляла, что с ней случалось нередко, при этом она всегда щурила глаза. Узнав мельчайшие подробности разговора, вплоть до отдельных выражений и интонаций, моя подруга так и осталась в недоумении — ведь я скрыл от нее, что причиной беспокойства моих родных являлась она сама. Слезы моей матери тоже показались ей загадочными. Однако девочка признала, что мать не по злой воле намеревается сделать меня священником, — она дала богу обет и боится его нарушить. Таким образом, Капиту словно извинялась за оскорбления, сорвавшиеся недавно у нее с языка, — я обрадовался, взял ее руку и крепко пожал. Капиту засмеялась и не отняла руки; мы замолчали и подошли к окну. Негр-разносчик, у которого мы обычно покупали сладости, увидев нас, закричал:
— Конфеты, кому конфеты?
— Не нужно, — отозвалась Капиту.
— Вкусные лакомства.
— Уходи скорее, — ответила она тихонько.
— Дай-ка сюда! — крикнул я разносчику и протянул руку.
Я купил сладостей для нас обоих, но Капиту отказалась, и мне пришлось съесть их одному. Как видишь, читатель, я с аппетитом поглощал конфеты, несмотря на тяжелые переживания, — быть может, это доказывало совершенство или несовершенство моего характера, сейчас не время разбираться в этом; а моя рассудительная подруга и не притронулась к ним, хотя была большой лакомкой. Ей не понравилась песенка разносчика, песенка, постоянно раздававшаяся по вечерам у нас под окном;
Плачь, плачь, детка,
Нет у тебя
Монетки…
Мотив она уже давно знала наизусть и напевала его, когда мы играли в продавца сластей. Возможно, насмешливые слова вызвали сегодня ее раздражение, ибо немного погодя она сказала:
— Будь я богатой, ты убежал бы из дома, сел бы на пакетбот и отправился в Европу.
Она испытующе поглядела мне в глаза, но, думаю, не прочла в них ничего, кроме благодарности за сочувствие. Я не удивился такому необычному предложению, зная ее дружеское расположение ко мне.
Как видите, в четырнадцать лет Капиту уже приходили в голову смелые мысли, потом, правда, она стала еще изобретательнее. Но действовала она всегда осторожно, ловко, искусно и достигала цели не сразу, а исподволь. Не знаю, понятно ли выражена моя мысль: я имел в виду, что, осуществляя свои далеко идущие планы, Капиту проявляла терпение, практичность, хотя и пользовалась самыми необычными способами. Вряд ли, например, задумав отправить меня в Европу, она просто посадила бы меня на пакетбот, ей скорее пришло бы в голову разместить на всем протяжении пути небольшие каноэ, и, якобы желая посетить крепость Лаже, я добрался бы по этому плавучему мосту до Бордо, а мать, стоя на берегу, тщетно ожидала бы моего возвращения. Таков был характер у Капиту; поэтому не удивляйтесь, что она не поддержала моего намерения открыто возражать против отъезда в семинарию и предложила другой путь: действовать осмотрительно, попытаться привлечь всех на свою сторону; она стала припоминать, кто бы мог оказаться нам полезным. Дядя Косме дорожит своим покоем и, хоть не одобряет моего посвящения в сан, пальцем не шевельнет, чтобы ему воспротивиться. Лучше обратиться к тете или к падре Кабралу, он пользуется большим авторитетом, но священник ни за что не выступит против церкви; разве только признаться ему, что у меня нет склонности.