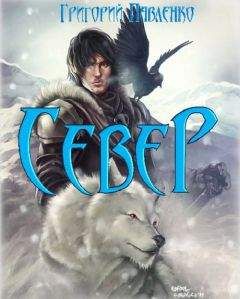Павел Васильев - Сочинения. Письма
Шум…
22Иваншин, отряхиваясь, вышел на свет,
Будто курица, выпущенная после щупки,
В обуви,
Которой прозванья нет,
Голубой
От холода и полукрупки.
Бороденка торчала
Лаптем худым,
Из шубейки
Клоками глядела
Вата.
Но Потанину хвастался:
— Отстоим. —
И держался молодцевато.
— Товарищи,
Скажу как могу,
Товарищи…
(Огляделся тревожно.)
Мы с Редниковым,
Можно сказать,
В снегу
Вместе отстреливались,
Как можно.
Что же насчет
Атаманских войск,
Потанин затронут Мишкою ложно.
Потанин — мужик, товарищи, свой,
Войска ж расставляли
Где только можно.
Можно сказать…
(Ряды: — О-ё-ёй!
— Есть человек,
Да совести нету!
— Иваншин, подумай!
— Иваншин, крой!
— А сколько тебе Потанин
За это?..)
…Я — как свидетель…
По существу же,
Если колхоз — при нашей беде,
Как бы дела
Не стали хуже,
А стали хуже
Они везде.
Ваш же укор
Мне в укор едва ли, —
Чего мне стыдиться?
Какой мне стыд?
Лебяжинцы
Вон как организовали —
Народ до сих пор
Оттуда бежит.
Когда присмотреться,
Так видишь ясно —
В единоличии
Слаще жись.
Можно и порознь
Жить согласно…
(Крик из президиума:
— Стыдись!)
— Стыжуся, смотри-ка,
Пуще огня!
Знамена
От ваших дел покраснели.
Да что вы
На самом деле на меня,
Александр Иванович,
В самом деле?
Чего мне стыдиться?
Какой мне стыд?
Да что я —
В желаньях одинокий?
Да вон —
Середнячество не хотит!
В рядах
Поднялся
Седой и широкий,
В иконном окладе бороды,
И выкатил
Облегчающим лаем:
— Насчет налогов туды-сюды,
Колхоза ж действительно не желаем.
Иваншин взметнулся:
— Видишь, сласть
Колхозная как приходится людям,
На что нам сдалась Насильная власть?!
Но басом
Вывинтил злобу
Юдин.
Застлал его грудью:
— Не нравится власть?
(Почти застонав,
Надвинувшись,
Глухо.)
Так, значит,
Советская власть
Не в сласть
Тебе,
Потанинская потаскуха?
И тут же,
Губы поджав, Чекмарев
Встал, ожиданьем долгим помятый:
— Поскольку
Одергивают бедняков,
Президиум
Покидаю, ребята.
И вынул платок.
И гармонист,
Смеясь, в темноте опрокинул банку,
Поднял плечо,
Приготовил свист,
Готовый рвануть
С ладов «Иркутянку».
И гармонь —
На красной вожже
Рябая птица, —
Сдержаться силясь,
Дышала, поскрипывала,
И уже
Женатые гирьками перекрестились,
«Пора» сказав, торопя затяжку,
Шомполы щупая возле ног,
Завидев,
Что проломил Алексашка
Грудью молчанья тонкий ледок, —
Он уже выдался весь,
Готовый
Пробиться сквозь молчанье и шум,
Когда над собраньем
Многопудовый
Голос упал на весы:
— Прошу.
Голову наклоняя,
Под знамя
Шагал Ярков
С тремя сыновьями.
— Прошу…
(Гармонист опустил плечо,
Решив, что качнуться
Покамест рано.
Женатые зашептались:
— Что еще? —
Гирьки забыв
Уложить в карманы.)
— Прошу, —
Так сказал
Ярков Евстигней. —
Прошу разрешить
Единое слово
Сказать за себя
И своих детей.
И дали
Высказаться Яркову.
И он, смирной,
Глазами печалясь,
Гривастый,
Потанину не чета,
Вытянул среднему сыну палец:
— Игнатий Евстигнеич,
Читай!
Игнатий
«Пятистенный,
Железом венчанный
Дом,
После потанинского
Пятый с краю,
Со всем преимуществом
И добром,
А также двор, амбар и сараи.
Саманка, баня,
Летний загон,
Сад с сиренью
И протчей природой,
Скрытые тесом со всех сторон,
Полдесятины
Под огороды.
А также коней:
Ходившие в паре
Братки,
Вороные от морд до хвоста.
И привозной из Актюбы
Гнедо-карий,
Киргизская вымесь
И тропота.
А также,
Окромя тропоты,
Бабка
И сын ее Норов рядом —
Кони, способные для пахоты
И перевозки
Чижолых кладов.
И с ними
Не на равной ноге
Рыжая родовая кобыла,
Бившая завсегда на байге
Бегунцов Актюбинска
И Баян-Аила.
При ей жеребенок,
Прозваньем Саня,
Явившийся только в этом году,
И к этим коням
Кибитки и сани
Исправные,
На железном ходу.
И к ним машины:
Одна молотилка,
Плуги,
Бороны,
Грабли и проч.
Коровы две:
Беляна и Милка,
И с Милкою
Годовалая дочь.
Включая сюда —
Запасы пшеницы
Сто один пуд,
Сто двадцать овса,
Включая сюда
Порося и птицу
И пегого на привязи пса».
И рыжая
Вымахнула кобылица,
Жаркая, золотом богатая масть,
Давая дыбки!
Вот она косится
Глазом, налитым кровью, ярясь.
И, круг начертив
Размашистым ходом,
Встала —
В бабках тонкая,
Хороша!
В нежных ноздрях
Порхала порода,
По жилам гуляла
Злая душа.
Под ней земля —
Словно зерна в ступе,
Тянет от нее
Конюшенным холодком —
То, будто барышня, переступит,
То поведет
Точеным ушком.
Ишь молода —
Кровей до отказу!
И всё ей кажется —
тесно тут…
Сейчас на торжище
Пестроглазом
Мимо степных купцов
Поведут.
И рядом
Зубы скалят Братки,
Мастью темней
Ночей в Заиртышье,
И шиной мерцающие ходки,
И дом, поднимающий в небо крыши.
Плуга стальной осетр, борона
В щучьих зубах,
Грудное мычанье
Ведерниц…
И дождь проливной зерна
Хлынул
На ладони собранью.
Евстигней Павлович
Вымолвил: — Вот,
Евстигней Павлович
Всё отдает!
Всё!
Останусь в рванье дерюжьем
С детьми
И сородичами
Наравне.
Пусть же хозяйство мое послужит
Советской власти,
Как раньше мне.
Прошу всепублично вас
И всурьез
Кряду,
Опомнившись
От заблужденья,
Дать моей просьбе
Удовлетворенье —
Вместе с семьей
Зачислить в колхоз.
Евстигней Павлович
Вымолвил: — Вот,
Страх,
Альсандр Иваныч, берет.
Страх берет,
Товарищ Седых
(Махнул на ряды рукой),
Не скрываю —
Краснею перед властью за них,
Примеру последовать
Призываю.
За мной пойдут,
Понимают сами… —
Пошептал кривыми усами,
Пожевал бровями,
Шапку снял
И запел «Интернационал».
Потанин ноги вытянул,
Слабый,
За соседей едва локтями держась:
«Хотя бы остепенился,
Хотя бы…
Что это он, товарищи, ась?»
И чекмаревцы, забыв про гири,
В диком смятении темноты
Застыли, пятерни растопырив,
Привстав и разинув глухие рты.
Один Иваншин вдруг запотел.
Вскочил, осел, поднялся снова,
Взглянув на Потанина, на Яркова,
Не выдержал и запел:
«И это есть наш последний
И решительный бой…»
«Али ты не любишь
Мальчишку, али…»
В снеговой пыли
Парней шубы
За плечо держали,
Рядом шли.
«Али затерялась
Среди товарок,
Али тебя выглядел
Коммунист…»
Гармонь проносил,
Как богу подарок,
Заломив башку,
Хмельной гармонист.
Это средь чадной
Иртышской ночи,
Переваливаясь
Из сугроба в сугроб
(— Чего тебе надо?
— Чего ты хочешь?),
Кулацкий орудовал агитпроп.
И, песню о любви смяв,
К сласти ее приморив охоту
(— Не надобно нам никаких управ!),
Частушку наяривали,
Широкороты,
Тяжелы, как деды их встарь,
Свои, станишные, не постояльцы,
И им подсвистывал
Сам январь,
Приладив к губам
Ледяные пальцы:
«Не ходи, Ярков, до них,
Не води коней своих,
Не хотят они таких,
А хотят иметь нагих…
Это счастье не по нам —
Не хотят приучивать,
Скоро будут мужикам
Головы откручивать».
(Утром возле колодца бабы разговаривали: — Али это правда, али марево ли. Евстигней Палыч вчерась выступал за власть. И этак сурьезно: «Долю свою без остатка вам, говорит, отдаю». Мужики-то удерживают его, а он всё больше насчет своего: «Отдаю, говорит, народу и то и се». Отдает, сказать, без малого всё. — Юдинская невестка поправила рваные шали: — Как же, постиг. Отдает, покудова не отобрали… Хитрый Евстигней Палыч мужик. — Анфиса Потанина поставила ведра, белужьи руки воткнула в бока, широкой волной раскачала бедра: — А твой кто таков? А ты кто така? — Юдина невестка белым-бела, руки с коромыслом переплела, бровью застреляла: — Мой кто таков? Мой покудова не держал батраков, у мово покудова на крыше солома, мой покудова не выстроил пятистенного дома, моему покудова попы не приятели, от мово родные дочери не брюхатели… А Александр Иванович ему: «Не возьмем: на наших, говорит, ты загривках строил дом, нашей, говорит, кровью коней поил, из наших, говорит, костей наделал удил. Не надо нам кулацкого в колхоз лисья. Раскулачим, говорит, тебя, Ярков, и вся».)