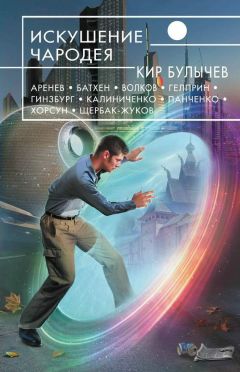Владимир Маяковский - Во весь голос (сборник)
Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
президиум,
как вырубленный, поредел?
Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым?
Держится еле.
Несчастье?
Какое?
Быть не может!
А если с ним?
Нет!
Неужели?
Потолок
на нас
пошёл снижаться вороном.
Опустили головы —
ещё нагни!
Задрожали вдруг
и стали чёрными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся
колокольчика ненужный щёлк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слёзы не сжуёшь
с усов и щёк.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
голову мнут.
Кровь в виски,
клокочет в вене:
– Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин! —
Этот год
видал,
чего не взвидят сто.
День
векам
войдёт
в тоскливое преданье.
Ужас
из железа
выжал стон.
По большевикам
прошло рыданье.
Тяжесть страшная!
Самих себя же
выволакивали
волоком.
Разузнать —
когда и как?
Чего таят!
В улицы
и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.
Радость
ползёт улиткой.
У горя
бешеный бег.
Ни солнца,
ни льдины слитка —
всё
сквозь газетное ситко
чёрный
засеял снег.
На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.
И как будто
слезы́ стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,
смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растёртая грязь.
Были люди – кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерьёзничались дети,
и, как дети,
плакали седобородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
восставшей
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатёночке Москвы
революции
и сына и отца.
Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло —
и видите под…
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица,
будто рана сквозная —
так болит
и стонет так.
Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.
Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.
Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца́ ему
ветками ёлок стели.
Он в битву вёл,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.
Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.
Он зе́мли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченным, снятся.
И коммунары
с-под площади Красной,
казалось,
шепчут:
– Любимый и милый!
Живи,
и не надо
судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
и ляжем в могилы! —
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят, —
плотина улиц
враспашку раство́рится,
и с песней
на смерть
ринутся люди.
Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб
и согну́тые плечи.
Он был человек
до конца человечьего —
неси
и казнись
тоской человечьей.
Вовек
такого
бесценного груза
ещё
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.
Ещё
в караул
вставала в почётный
суровая гвардия
ленинской выправки,
а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.
В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но в эту
холодную,
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.
Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.
Жёлтое солнце,
косое и лаковое,
взойдёт,
лучами к подножью кидается.
Как будто
забитые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.
Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы меняя,
путая даты.
Как будто
не ночь
и не звёзды на ней,
а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют