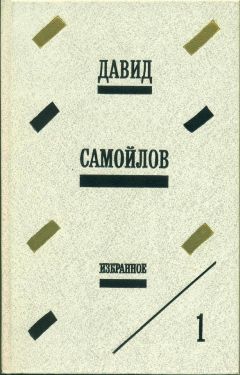Давид Самойлов - Избранное
Я знаю нескольких актеров в роли Гамлета. Высоцкий в этой роли мне кажется наиболее убедительным. Он несомненно занимает видное место в галерее русских исполнителей Гамлета.
Высоцкий играл Гамлета без гамлетизма, веками наросшего вокруг этого образа, который, возможно, стал означать нечто иное, чем было задумано Шекспиром. Знаменитые монологи Высоцкий произносил без всякого нажима, не как философские сентенции, а как поиски реальных жизненных решений.
С той же трактовкой играли достойные партнеры Высоцкого — А. Демидова, В. Смехов. Основой спектакля был поступок, а не рефлексия. Все творчество Высоцкого — поступок, а не рефлексия. К этому он готовил себя на сцене, там он почувствовал действительность «обратной связи» в художественном воображении. Я уверен, что реакция зрителей, ощущение их живого восприятия, их «заказ» был одним из необходимых стимулов в его работе.
Мне не пришлось присутствовать на выступлениях Высоцкого перед широкой аудиторией. В те годы популярность артиста не была столь широкой, как в последнее десятилетие его жизни.
Но мы регулярно встречались в небольшой дружеской компании в праздники и в дни рождения. Там гвоздем вечера всегда было пение Высоцкого. Он сочинял много, пел щедро. Ранние стилизации отходили на второй план. Друзья поддерживали уверенность артиста в общественной необходимости его творчества. В серьезных разговорах о явлениях и событиях жизни он вырабатывал позицию и черпал темы для своих песен. Уже не «были московского двора» питали его вдохновение, а серьезные взгляды на устройство мира.
Он умел слушать и брать то, что ему нужно. Расширялся диапазон культурных традиций русской поэзии и песни, которые он впитывал.
Художник тот, кто умеет впитывать разное и преображать в свое. Таким был Владимир Высоцкий.
Противники упрекают его в нарушении традиций, некоторые сторонники рассматривают как феномен социальной жизни. Мало еще разработана корневая система творчества Высоцкого.
Думаю, что одна — и не последняя — причина популярности художника в том, что он воплотил и соединил множество традиций, близких народному сознанию,— Некрасова, жестокий романс, фабричную песню, балладный стих советской поэзии 20-х годов, солдатскую песню времен Великой Отечественной войны и многое другое. В этом еще предстоит разобраться знатокам стиха и песни.
Высоцкого интересовал не только конечный результат его песен и собственный успех. Ему важно было соизмериться с современной поэзией, узнать о собственном поэтическом качестве. Именно для этого собрались однажды у Слуцкого он, Межиров и я.
Владимир не пел, а читал свои тексты. Он заметно волновался. Мы высказывали мнение о прочитанном и решали, годится ли это в печать. Было отобрано больше десятка стихотворений. Борис Слуцкий отнес их в «День поэзии». Если память не изменяет, напечатано было всего лишь одно. Это, кажется, первая и последняя прижизненная его публикация.
До начала 70-х годов мы встречались с Высоцким в театре и в том же кругу знакомых. Однажды летом он приезжал ко мне на дачу в подмосковную Опалиху с поэтом Игорем Кохановским. На сей раз без гитары.
Известность его песен быстро росла. Он расходился по стране в магнитофонных записях. Помню, как рано утром приехал ко мне с магнитофоном Межиров и мы целый день слушали песни Высоцкого. Межиров тогда восторженно относился к ним.
С 1976 года я Володю не видел.
Неожиданно летним днем пришло известие о его смерти. Мне сообщил об этом Юлий Ким, отдыхавший в Пярну. Он сразу же ринулся в Москву провожать Высоцкого в последний путь...
1980
Попытка воспоминаний
Мне трудно писать воспоминания о Сергее Наровчатове, потому, что объем нашей почти полустолетней дружбы почти совпадает с объемом нашей творческой жизни. Наша дружба, не испорченная ни одним внешним конфликтом, была не лишена своего внутреннего драматизма, что естественно при различии наших характеров и путей. Этот драматизм прочитывается в графике наших схождений и расхождений, мягких и естественных. Мы сближались тогда, когда Наровчатову бывало плохо. Не считая, впрочем, юношеских лет, когда нам обоим было хорошо.
— Мне тебя физически не хватает,— сказал мне Сергей при последней нашей встрече.
Я мог бы ответить ему тем же. Нехватка друг друга была, может быть, определяющим фактором наших отношений в последние четверть века. И, возможно, фактором плодотворным.
Наша дружба была близкой, прочной, но не тесной. Теснота часто мешает. Нехватка друг друга создавала некий простор, расстояние, с которого мы лучше видели друг друга. У нас не было потребности друг друга исправлять или улучшать, не было потребности ежедневно делиться подробностями и неурядицами личной жизни. «Нехватка» означала потребность делиться идеями, а не оправданиями или объяснениями. Нашими исповедями были идеи.
Исторические масштабы мыслей и понятий всегда увлекали Сергея. В этих масштабах несущественными были мелкие извилины личных путей. Их можно было воспринимать со снисходительной иронией, как забавные игры АБСОЛЮТА, то есть исторического закона.
Мышление Наровчатова было настолько масштабным, что порой не вмешалось в стихи и в события его жизни. Он долгие годы пробивался к совмещению этих двух планов в литературном творчестве, понимая, что одного АБСОЛЮТА для литературы недостаточно, пока не отыскал точку совмещения в исторической иронии.
В прозе позднего Наровчатова воплотились все достоинства его мышления, нашли применение его обширные знания. Он вступил в новый этап своего творчества, может быть, наиболее важный. Этот этап жестоко прервался смертью. Вот когда снова не хватает Наровчатова не только мне, но и всей нашей литературе.
* * *С иронией эпохальной у него было все в порядке. Хуже иногда бывало с самоиронией.
Помню, как он рассердился на Глазкова, сочинившего песенку:
От Эльбы до Саратова,
От Волги до Курил
Сережу Наровчатова
Никто не перепил.
— Пришел Глазков, — возмущался Сергей,— и спел мне своим мерзким козлетоном какую-то дурацкую песенку. Вполне бездарную, между прочим...
Однажды он пришел ко мне восторженный и окрыленный.
— Ты знаешь, я не ожидал, что Фадеев обо мне такого высокого мнения. Он написал мне рекомендательное письмо с потрясающими формулировками!
— А куда письмо?
— В больницу.
Я расхохотался. Сергей с некоторым недоумением уставился на меня. Потом заулыбался, заразившись моим смехом, и сказал добродушно:
— Всегда ты что-нибудь схохмишь.
Он ложился тогда на лечение в Институт питания. Я несколько раз навещал его. И он с большим юмором рассказывал о своих соседях и об эпизодах больничной жизни.
К себе Наровчатов относился с большим простодушием.
У него было характерное произношение: твердое «ш» перед гласными он произносил почти как «ф». Это придавало особое обаяние его речи, придавало воздушность и сочность его прекрасному говору.
— Послуфай, брат,— часто начинал он разговоры со мной.
В годы нечастых наших встреч он особенно любил предаваться воспоминаниям нашей юности, к которым был нежно привязан. Он детально помнил разговоры, случаи и происшествия ифлийского периода нашей жизни, считал это нашим личным достоянием и не любил, чтобы посторонние мешали ему вспоминать.
Однажды, когда мы вдвоем сидели за столиком в ресторане ЦДЛ и Сергей наслаждался пиром памяти, к нам подсел поэт тоже ифлийского происхождения, но следующей генерации и вторгся в речь Наровчатова с какими-то уточнениями и дополнениями.
— Алё! Молчать! — вдруг закричал Наровчатов.
Поэт обиделся. Он решил, что на него накричал секретарь Союза.
Часто улыбался. А вот смеха, хохота его не помню. Скорей посмеивался, пофыркивал, часто при этом приговаривая. Смеялся не во вне, а как бы внутрь себя, не смешному слову или происшествию, а чему-то своему.
В разговоре то, что не затрагивало его, скользило по поверхности. Всегда поворачивал разговор к тому, что его интересовало.
Любил, когда мысль ветвится, расширяется до беспредельности, но не перебрасывается на что-то другое. В основе своей был серьезен. Оттого любил разговаривать с И. Крамовым, который тоже был упорен в мысли.
С Крамовым он дружил на год дольше, чем со мной. Отношения их были в чем-то похожи на наши. Крамов, однако, позволял себе на него сердиться.
* * *Правильностью черт и фигурой Сергей больше походил на отца, выражением лица — на мать. Из-за густых бровей и немногословности отец на первый взгляд казался суровым. На самом деле он был человек мягкий и добрый. Сам Сергей писал о его природной интеллигентности. Лидия Яковлевна отличалась яркостью характера и живостью в разговоре. Она ревниво, с большим честолюбием и твердостью любила сына.