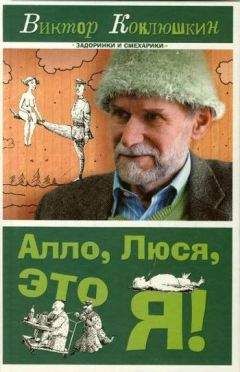Владимир Маяковский - Том 9. Стихотворения 1928
[1927–1928]
Лицо классового врага*
Распознать буржуя —
просто
(знаем
ихнюю орду!):
толстый,
низенького роста
и с сигарою во рту.
Даже
самый молодой —
зуб вставляет
золотой.
Чу́дно стрижен,
гладко брит…
Омерзительнейший вид.
А из лы́синных целин
подымается —
цилиндр.
Их,
таких,
за днями дни —
раздраконивал
Дени*.
А буржуй —
завел бородку
(зря соваться —
нет причин),
влез,
как все,
в косоворотку
и почти
неотличим.
Вид
под спе́ца,
худ с лица —
не узнаешь подлеца.
Он вшой
копошится
на вашем теле,
никак
не лезет
в тузы,
гнездится
под вывеской
разных артелей,
дутых,
как мыльный пузырь.
Зал
парадных
не любит он,
по задворкам
ищите хвата.
Где-то он
закупает лен,
где-то
хлеб
у нас
перехватывает.
Он лавку
украсит
сотнею ваз…
Куда
государственным органам!
В такую
любезность
обсахарит вас,
что вы
прослезитесь растроганно.
Не сам
штурмует,
тих да хитёр,
сначала
движется
парламентёр:
он шлет
в канцелярский за́мок
своих
расфуфыренных самок.
Бывает,
раскиснет партиец иной:
— И мне бы
влюбиться
в звезду из кино! —
мечтает,
ничем не замаран…
А частник
встает
за его спиной,
как демон
сзади Тамары.
«Не угодно ли взаймы?
Что вы?
Ах!
Сочтемся мы!..»
И идет
заказ
на сии дрова
в артель
гражданина Сидорова.
Больше,
Сидоров,
подноси
даров!
И буржуй,
от чувства великого,
из уральского камня,
с ласкою,
им
чернильницу с бюстом Рыкова*
преподнес
в годовщину февральскую.
Он купил
у дворника брюки
(прозодежда
для фининспектора), —
а в театре
сияют руки
всей игрой
бриллиантного спектра.
У него
обеспечены рублики —
всем достояньем республики.
Миллионом набит карман его,
а не прежним
советским «лимоном»*.
Он мечтает
узреть Романова…
Не Второго —
а Пантелеймо́на*.
На ложу
в окно
театральных касс
тыкая
ногтем лаковым,
он
дает
социальный заказ
на «Дни Турбиных» —
Булгаковым*.
Хотя
буржуй
и лицо перекрасил
и пузо не выглядит грузно —
он волк,
он враг
рабочего класса,
он должен быть
понят
и узнан.
Там,
где речь
о личной выгоде,
у него
глаза навыкате.
Там,
где можно пролезть
для своих нажив,
там
его
глаза — ножи.
Не тешься,
товарищ,
мирными днями.
Сдавай
добродушие
в брак.
Товарищи,
помните:
между нами
орудует
классовый враг.
Кулака увидеть —
просто —
посмотри
любой агит.
Вон кулак:
ужасно толстый,
и в гармошку сапоги.
Ходит —
важный,
воло̀сья —
припомажены.
Цепь лежит
тяжелым грузом
на жилетке
через пузо.
Первый пьяница
кулак.
Он гуляка из гуляк —
и целуется с попами,
рабселькорам на память.
Сам,
отбился от руки,
всё мастачат
батраки.
Сам,
прельщен оконным светом,
он,
елозя глазом резвым,
ночью
преда сельсовета
стережет
своим обрезом.
Кулака
чернят —
не так ли? —
все плакаты,
все спектакли.
Не похож
на кулачество
этот портрет.
Перекрасил кулак
и вид
и масть.
Кулаков
таких
почти и нет,
изменилась
кулачья видимость.
Сегодня
кулак
и пашет,
и сам
на тракторе
прет, коптя,
он лыко
сам
дерет по лесам —
чтоб лезть
в исполком
в лаптях.
Какой он кулак?!
Помилуй бог!
Его ль
кулаком назовем?
Он
первый
выплатил
свой налог
и первый
купил заем.
А зерно —
запрятано
чисто и опрятно.
Спекульнуть получше
на голодный случай.
У него
никакого батрачества,
крестьянин
лучшего качества.
На семейном положеньице, —
чтоб не было
зря
расходца,
каждый сын
весною женится,
а к зиме
опять расходится.
Пашут поле им
от семи до семи
батраков семнадцать
под видом семьи.
Попробуй
разобраться!
Иной
работник
еще незрел,
сидит
под портретом Рыкова,
а сам у себя
ковыряет в ноздре,
ленясь,
дремля
и покрикивая.
То ли дело —
кулак:
обхождение —
лак.
Все дворы
у него,
у черта,
учтены
корыстным учетом:
кто бедняк
и который богатый,
где овца,
где скот рогатый.
У него
на одной на сажени
семенные культуры рассажены.
Напоказ,
для начальства глазастого,
де —
с культурой веду хозяйство.
Но
попрежнему —
десятинами
от трехполья
веет сединами.
И до этого дня
наш советский бедняк
голосит
на работе
«Дубину»,
а новейший кулак
от культурнейших благ
приобрел
за машиной машину.
«Эх, железная,
пустим*.
Деревенщина —
сама пойдет.
Заплатит, —
получим
и пустим».
Лицо приятное,
ласковый глаз,
улыбка
не сходит с губ.
Скостит
на копейку
задолженность с вас,
чтоб выпотрошить —
рупь.
Год, другой —
и вся округа
в кабалу
затянута туго.
Трут в поклонах
лбом о́нучи:
«Почет
Иван Пантелеймонычу».
Он добряк,
но дочь, комсомолку,
он в неделю
со света сживет.
«Где была?
Рассказывай толком!
Набивала
детьми
живот?»
Нет управы.
Размякло начальство
от его
угощения частого.
Не с обрезом
идет под ве́чер, —
притворясь,
что забыл о вражде,
с чаем
слушает
радиоречи —
уважаемых вождей.
Не с обрезом
идет
такой мужик.
Супротив милиции…
Где ж им?!
Но врагу своему
сегодня
гужи
он намажет
салом медвежьим.
И коняга,
страшась медведя,
разнесет
того, кто едет.
Собакой
сидит
на своем добре.
У ямы,
в кромешной темени,
зарыта
деньга
и хлеб, —
и обрез
зарыт
до поры до времени.
Кулак орудует,
нечего спать.
Будем крепче, чем кре́мни.
Никаким обрезом
обратно и вспять
не повернуть
советского времени.
Хотя
кулак
лицо перекрасил
и пузо
не выглядит грузно —
он враг
и крестьян,
и рабочего класса,
он должен быть
понят
и узнан.
Там,
где речь
о личной выгоде,
у него
глаза навыкате.
Там,
где брюхо
голодом пучит,
там
кулачьи
лапы паучьи.
Не тешься,
товарищ,
мирными днями,
сдавай
добродушие
в брак.
Товарищ,
помни:
между нами
орудует
классовый враг.
[1928]