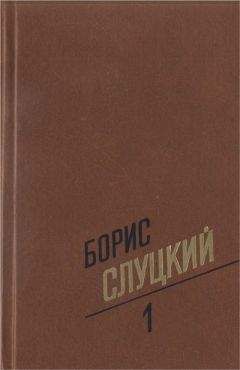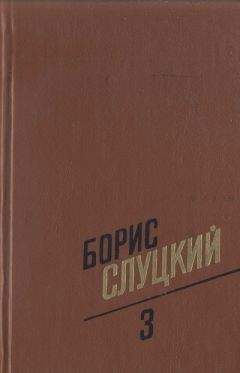Борис Слуцкий - Собрание сочинений. Т. 2. Стихотворения 1961–1972
«Юность — аванс. Дается всем…»
Юность — аванс. Дается всем
лет на восемь или на семь,
лет на девять или на десять.
Как его тратить, следует взвесить.
Как же его базарить, транжирить,
как же его пускать в распыл?
Я бы хотел хоть год зажилить,
спрятал бы, на полжизни забыл.
А полжизни спустя, под старость
вынул бы этот зажатый год.
Мне бы, конечно, показалось
это — лучше всяких льгот.
Вы — представьте! Все мои сверстники,
однокашники, ровесники
постарели — до одного.
Все скрипят. А я — ничего!
А я — в армейскую форму влито́й,
а я — в сапоги солдатские вбитый,
весь — до последней запятой —
живой. Хоть раненый, но не убитый.
А я — офицер Великой Отечественной
войны. Накануне победного дня,
и ветер мая, теплый, величественный,
вежливо обдувает меня.
«Покуда над стихами плачут…»
Владиславу Броневскому в последний день его рождения были подарены эти стихи
Покуда над стихами плачут,
пока в газетах их порочат,
пока их в дальний ящик прячут,
покуда в лагеря их прочат,—
до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не згинело,
хоть выдержало три раздела.
Для тех, кто до сравнений лаком,
я точности не знаю большей,
чем русский стих сравнить с поляком,
поэзию родную — с Польшей.
Еще вчера она бежала,
заламывая руки в страхе,
еще вчера она лежала
почти что на десятой плахе.
И вот она романы крутит
и наглым хохотом хохочет.
А то, что было,
то, что будет,—
про это знать она не хочет.
«Июнь был зноен. Январь был зябок…»
Июнь был зноен. Январь был зябок.
Бетон был прочен. Песок был зыбок.
Порядок был. Большой порядок.
С утра вставали на работу.
Потом «Веселые ребята»
в кино смотрели. Был порядок.
Он был в породах и парадах,
и в органах, и в аппаратах,
в пародиях — и то порядок.
Над кем не надо — не смеялись,
кого положено — боялись.
Порядок был — большой порядок.
Порядок поротых и гнутых,
в часах, секундах и минутах,
в годах — везде большой порядок.
Он длился б век и вечность длился,
но некий человек свалился,
и весь порядок — развалился.
ПАЯЦ
Не боялся, а страшился
Этого паяца:
Никогда бы не решился
Попросту: бояться.
А паяц был низкорослый,
Рябоватый, рыжий,
Страха нашего коростой,
Как броней, укрытый.
А паяц был устрашенный:
Чтобы не прогнали,—
До бровей запорошенный
Страхом перед нами.
Громко жил и тихо помер.
Да, в своей постели.
Я храню газетный номер
С датой той потери.
Эх, сума-тюрьма, побудка.
Авоськи-котомки.
Это все, конечно, в шутку
Перечтут потомки.
РАЗГОВОР
— Выпускают, всех выпускают,
распускают все лагеря,
а товарища Сталина хают,
обижают его зазря.
Между тем товарищ Сталин
обручом был — не палачом,
обручом, что к бочке приставлен,
и не кем-нибудь — Ильичем.
— Нет, Ильич его опасался,
перед смертью он отписал,
чтобы Сталин ушел с должности,
потому что он кнут и бич.
— Дошлый был он.
— Этой дошлости
опасался, должно быть, Ильич.
«Два оклада выдают за два…»
Два оклада выдают за два,
нет, за полтора десятилетия.
Лихолетье било словно плетью.
Компенсируют — едва-едва.
Два оклада и еще доклада
неопубликованного
часть.
Прежде говорили: это часть.
А теперь — ни складу и ни ладу
в объяснениях,
зато сулят
глаз вон — если кто вспомянет старое.
И от старого давно усталые
получают свой двойной оклад.
«После лагеря ссылку назначили…»
— После лагеря ссылку назначили,
после севера — Караганду.
Вечный срок! Объяснять мне начали.
Я сказал: ничего, подожду.
Вечно, то есть лет через десять,
может быть, через восемь лет
можно будет табель повесить,
никогда больше не снимать.
Вечность — это троп поэтический,
но доступный даже судье.
Срок реальный, срок фактический
должен я не так понимать.—
Хорошо говорить об этом
вживе, в шутку и наяву
с отсидевшим вечность поэтом,
но вернувшимся все же — в Москву.
С ним, из вечной ссылки вернувшимся,
обожженным вечным огнем,
но не сдавшимся, не загнувшимся:
сами, мол, хоть кого загнем.
«Из буфета пахло — избуфетным…»
Из буфета пахло — избуфетным.
Из начальства пахло — изначальным.
Чем-то бедным
и печальным.
Дом как дом,
контора всем конторам,
деньги получаем по которым.
Это учрежденье учредилось
для свободы, правды и добра.
Это заведенье заводилось
в полдесятого, с утра.
Этот дом имел такую вывеску,
формулу такую он имел,
что ее и умному не вывести,
разве гений, может быть, посмел.
Гений вывел формулу и бросил.
Мы же сами — много не смогли.
И осталась формула, как просинь
в черном небе,
черном для земли.
«Тайны вызывались поименно…»
Тайны вызывались поименно,
выходили, сдержанно сопя,
словно фокусник в конце сезона,
выкладали публике себя.
Тайны были маленькие, скверненькие.
Каялись они — навзрыд,
словно шлюхи с городского скверика,
позабывшие про срам и стыд.
Тайны умирали и — смердели
сразу.
Словно умерли давно.
Люди подходили и смотрели.
Людям было страшно и смешно.
«Мягко спали и сладко ели…»
Мягко спали и сладко ели,
износили кучу тряпья,
но особенно надоели,
благодарности требуя.
Надо было, чтоб руки жали
и прочувствованно трясли.
— А за что?
— А не сажали.
— А сажать вы и не могли.
Все талоны свои отоварьте,
все кульки унесите к себе,
но давайте, давайте, давайте
не размазывать о судьбе,
о какой-то общей доле,
о какой-то доброй воле
и о том добре и зле,
что чинили вы на земле.
«Шаг вперед!..»
Шаг вперед!
Кому нынче приказывают: «Шаг вперед!»
Чья берет?
И кто это потом разберет?
То ли ищут нефтяников
в нашем пехотном полку,
чтоб послать их в Баку
восстанавливать этот Баку?
То ли ищут калмыков,
чтоб их, по пустыням размыкав,
удалить из полка
этих самых неверных калмыков?
То ли ищут охотника,
чтобы добыть «языка»?
Это можно — задача хотя нелегка.
То ли атомщик Скобельцын
присылает свои самолеты,
чтоб студентов физфаков
забрать из пехоты?
То ли то, то ли это,
то ли так, то ли вовсе не так,
но стоит на ребре
и качается медный пятак.
Что пятак? Медный грош.
Если скажут «Даешь!», то даешь.
И пока: «Шаг вперед!» —
отдается в ушах, мы шагаем вперед.
Мы бестрепетно делаем шаг.
«У меня было право жизни и смерти…»