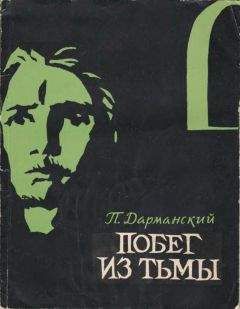Борис Пастернак - «Я понял жизни цель» (проза, стихотворения, поэмы, переводы)
– И опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли... и вот опять скоро мимо идти.
– Что ты?
– Да то. А медник?.. На углу.
– Так та пыльная, значит...
– Ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А Череп-Саввичи – в конце, направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки.
Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о «полуде», то это такая горная порода – одним словом, руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки и обжигают горшки, и Ахмедьяновы все это умеют.
Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они и забыли: она – про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа – про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения, и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видела хромого и трех незнакомок и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромой.
VIНегарат уезжал вечером. Отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью, и в дворницкой его появление вызвало большой и не скоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали. Лил дождь, и гоготали кем-то упущенные гуси.
Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая, болтался и брызгал грязью гадкий дождик, подскакивали повозки, и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах.
Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром: в коляске ей было отказано. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным семенем. Но с полдороги, убедясь, что из торговой части ей одной к Дефендовым пути не найти, она повернула назад. Потом она вспомнила, что дело раннее и Лиза все равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась. Но еще не прояснило. По улице летал и листом приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города,теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади, за трехруким фонарем.
Переезжавший был, верно, человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полок, как стояли в комнате, и колесца кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как по паркету, при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки. Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились: обглоданный непогодой булыжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус в кадушке, который колыхался, нескладно кланяясь с телеги всем пролетевшим.
Воз был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полок, широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово: город, порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавший по улице и падавший в воду октябрьский холодный блеск.
«Он простудится, только разложит вещи», – подумала она про неизвестного владельца. И она представила себе человека, – человека вообще, валкой, на шаги разрозненной походкой расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его ухватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг кадки, станет обтирать затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя и это представила очень живо себе. Очень живо. Воз загромыхал под гору к Исети. Жене было налево.
Это происходило, верно, от чьих-то тяжелых шагов за дверью. Подымался и опускался чай в стакане на столике у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Качались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку. На которых турка... курит... трубку. Курит... трубку.
Это происходило, верно, от чьих-то шагов. Больная опять заснула.
Женя слегла на другой день после отъезда Негарата; в тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика, в тот день, когда при виде воза с мебелью она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо по поту обсыпанная трудным красным перцем, который жег и слипал ей веки и краешки губ. Ее донимала испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущеньем укуса. Будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней осой. Будто тонкое, в седой волосок, ее жальце осталось в ней, и его хотелось вынуть, не раз и по-разному. То из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспламененного плеча, то еще откуда.
Теперь она выздоравливала. Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, какой-то странной своей геометрии. От нее слегка кружило и поташнивало.
Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся неимоверными в стремлении сумерек принять форму площади, ложащейся в основанье этого помешательства пространства. Или, отделясь от узора на обоях, оно, полосу к полосе, прогоняло перед девочкой широты, плавно, как на масле, сменявшие друг друга и тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же начала, с первой штуки в паркете, свою бездонность, и пускало кровать ко дну тихо-тихо, и с кроватью – девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась, и расструивалась в нем.
Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов.
Это происходило от чьих-то шагов. Опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоях.
Наконец она проснулась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впечатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно.
Домашние входили и выходили, садились и подымались. Она задавала вопросы и получала ответы. Были вещи, переменившиеся за ее болезнь, были оставшиеся без перемены. Этих она не трогала, тех не оставляла в покое. По-видимому, не изменилась мама. Совсем не изменился отец. Изменились: она сама, Сережа, распределение света по комнате, тишина всех остальных, еще что-то, много чего. Выпал ли снег? Нет, перепадал, таял, подмораживало, не разберешь что, голо, бесснежье. Она едва замечала, кого о чем расспрашивает. Ответы бросались наперебой.
Здоровые приходили и уходили. Пришла Лиза. Препирались. Потом вспомнили, что корь не повторяется, и впустили. Побывал Диких. Она едва замечала, от кого какие идут ответы.
Когда все вышли обедать и она осталась одна с Ульяшей, она вспомнила, как рассмеялись все тогда на кухне глупому ее вопросу. Теперь она остереглась задавать подобный. Она задала умный и дельный, тоном взрослой. Она спросила, не беременна ли опять Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан, и отвернулась.
– Ми-ил!.. Дай отдохнуть. Не за все же ей, Женечка, в один уповод...
И выбежала, плохо притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, и за хохотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденщице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забрякало проворно и с задором, будто с побранок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь.
Этого спрашивать не следовало. Это было еще глупее.
VIIЧто это, никак, опять тает? Значит, и сегодня выедут на колесах и в сани все еще нельзя закладать? С холодеющим носом и зябнущими руками Женя часами простаивала у окошка. Недавно ушел Диких. Нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся. Облака облезлые и грязные, как плешивая полость. День тычется рылом в стекло, как телок в парном стойле. Чем бы не весна? Но с обеда воздух, как обручем, перехватывает сизою стужей, небо вбирается и впадает, слышно, как с присвистом дышат облака; как, стремя к зимним сумеркам, на север, обрывают пролетающие часы последний лист с деревьев, выстригают газоны, колют сквозь щели, режут грудь. Дула северных недр чернеются за домами; они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем. Но все октябрь еще только.